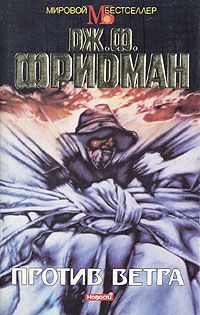Она не нападает.
Змеи не отличаются особыми умственными способностями, но я готов поклясться на Библии, что эта змея попросту струсила. Хардиман взглядом заставляет ее свернуться клубком и откладывает в сторону.
Когда я приехал, мне было холодно, но сейчас я обливаюсь потом, и причиной тому не устаревшая система отопления в храме, работающая на угле.
Певчие затягивают песню, какой-то старый гимн, смутно знакомый. Не знаю, что еще произойдет, но то, что я уже увидел, привело меня в трепет.
Пока хор поет, одна из танцующих женщин, извиваясь, словно змея, несет к алтарю большое полотенце и масонский кувшин с какой-то густой, темной жидкостью, по внешнему виду она напоминает самогон, который я пробовал в детстве.
Хардиман полотенцем вытирает лоб, на котором выступила испарина, и берет кувшин.
Меня разбирает любопытство. Я наклоняюсь к старику, сидящему впереди.
— А что в кувшине?
— Цианид, — говорит он так, словно речь идет о лимонаде.
— А зачем он?
— Чтобы выпить. — Обернувшись, он смотрит на меня.
Выпить? Это еще что такое, черт побери? Парень, который пьет яд и шутя обращается с ядовитыми змеями? Ну ладно, он чертовски обаятелен, может, самый обаятельный из всех, к кому я проникался симпатией, но у меня четверо подзащитных, приговоренных к смертной казни, судьба их зависит от него и от какого-то уличного мальчишки, которого он недавно обратил в свою веру! А если он на самом деле выпьет эту бурду и окочурится?
— Он что, пьет цианид? — тупо переспрашиваю я.
— Если это будет угодно Господу Богу.
Если это будет угодно Господу Богу!
Взобравшись на алтарь, Хардиман берет кувшин с цианидом и высоко поднимает его над собой.
«И если что смертоносное выпьют, не повредит им».
Мне доводилось видеть, как проповедники в Индии ступали на раскаленные угли, от которых ноги у них, по идее, должны были бы обгореть до самых лодыжек, и сходили с них как ни в чем не бывало. Не спорю, во время моего увлечения Коренной американской церковью мне приходилось сталкиваться (правда, не воочию, такие сведения я почерпнул из источников, заслуживающих всяческого доверия) с такими же невероятными чудесами. Но люди, способные пить яд из масонского кувшина?
Хардиман разглядывает сосуд, подносит кувшин к лицу и, сунув голову в его отверстие, делает глубокий вдох.
— Ну и гадость! — говорит он. — Таким цианидом можно сжечь себе все внутренности.
Собравшиеся хохочут.
— Аминь! — орут они. — Скажи то же самое!
Долгим взглядом, в котором читается чуть ли не сожаление, смотрит он на сосуд и отставляет его в сторону, сбоку от алтаря.
— Этим я займусь попозже, — говорит он. — Может, попозже.
Выйдя на середину алтаря, он бросает взгляд на собравшуюся внизу паству.
— Вы знаете, кто такой Иисус Христос? — Голос у него тихий.
— Аминь! — отвечает ему толпа. — Конечно, да, это Бог.
— Знаете ли вы, кто такой Иисус Христос? Живет ли он внутри вас, в вашем сердце?
— Да!
— Аминь!
— Знаете ли вы Иисуса, живет ли он в вашем сердце?
— Да!
— Аминь!
— Вы знаете Его!
— Да!
— Он живет в вашем сердце!
— Да!
— Вы знаете Иисуса Христа!
— Да!
— Целиком!
— Да!
— Без всяких оговорок!
— Да!
— Он живет в вашем сердце!
— Да!
— Целиком!
— Да!
Рядом со мной какая-то женщина падает в обморок. Соседи укладывают ее на стул и снова поворачиваются к Хардиману, чтобы не пропустить ни одного слова.
— Какого же друга я обрел в лице Иисуса Христа! — Он произносит слова нараспев, густым, звучным басом, достойным самого Поля Робсона. Паства начинает подпевать, вкладывая в пение всю душу.
Слова почти незнакомые, но я тоже присоединяюсь к хору. Наверное, поступить иначе я и не могу, не потому, что так нужно, а потому, что меня захватывает чувство сопричастности с происходящим. Я начинаю понимать, с какой стати человек, якобы убивший другого человека (так, во всяком случае, утверждает Скотт Рэй), нанесший ему сорок семь ножевых ранений и отрезавший половой член, изъявляет готовность сделать добровольное признание. Преподобный Хардиман — на самом деле великая сила.
Мы исполняем еще несколько псалмов. Кроме Хардимана, чернокожих тут больше нет, но, похоже, это не играет ровным счетом никакой роли. Для людей он — своего рода духовный наставник, только это и имеет значение.
Начинается отпущение грехов. Вперед то и дело выступают как те, что уже получили отпущение грехов, так и те, кому это еще предстоит. Они с жаром рассказывают о своем превращении и переходе в Христово учение, о том, как Иисус Христос помог выбраться из косности, одиночества, греха и наставил на путь добродетели. Это производит довольно трогательное впечатление, но подобное мне доводилось видеть, оно не кажется из ряда вон выходящим, как танцы с двумя гадюками. Я не собираюсь просить об отпущении грехов, во всяком случае, не сегодня, и не нахожу себе места от беспокойства. Сейчас я уже хочу сесть где-нибудь в укромном уголке вместе со Скоттом Рэем и выяснить, что же на самом деле стоит за его признанием.
Служба уже кажется мне чересчур затяжной и канительной. Половина одиннадцатого, а ей не видно пока ни конца ни краю. Стараясь ступать как можно тише и незаметнее, я выхожу из храма.
Пахнувший мне в лицо холодный воздух я воспринимаю как благодать. Усевшись на мокрый потертый поручень, я запрокидываю голову к небу. Оно затягивается тучами, вот-вот может пойти дождь, луна чуть проглядывает сквозь клочья облаков, в туманной дымке едва заметно светятся звезды. Голоса в храме затихают, я позволяю себе расслабиться и ни о чем не думать, погружаясь в молочно-белую пелену, обступающую все вокруг.
— Что, слишком тяжело для первого раза?
Вздрогнув, я оборачиваюсь: не слышал, как кто-то подошел.
— Нет. Мне просто нужно было побольше свободного места. Все это для меня в диковинку.
Она подходит ко мне со стороны закрытой двери, ведущей в храм, кутаясь от холода в старое мужское полудлинное пальто. Я узнаю одну из женщин, которые танцевали рядом со змеями. Теперь вижу, что она довольно симпатичная, примерно одного со мной возраста, лицо без морщин, а веснушки отчетливые, даже в зимнее время года. Хороши большие зеленые глаза орехового оттенка на молочно-белой коже, золотисто-каштановые волосы, во время танца струившиеся по спине, теперь собраны в скромный пучок. Косметики нет и в помине, даже губы и те не накрашены. Пожалуй, ее можно было бы даже назвать красавицей.
— Ивлин Декейтур, — называет она себя. — Добро пожаловать к нам в церковь.
— Уилл Александер. Спасибо. — На редкость церемонный получается у нас разговор.
Она вежливо кивает в знак приветствия.
— Они говорили о вас.
— Они?
— Преподобный Хардиман… и Скотт.
— Вот оно что! — Внутренний голос предостерегает: они что, выслали ее навстречу, чтобы пронюхать, зачем я явился?
Она достает смятую пачку сигарет, не предложив мне, закуривает и делает глубокую затяжку. Она курит так, как курят женщины в Европе, мне вдруг кажется, так курила бы сама Симона Синьоре, и не на экране, а в жизни, получая удовольствие и не обращая ни на кого внимания.
— Скотт — хороший мальчик, — говорит она, глубоко затягиваясь. — Особенно теперь, когда обрел кумира в лице Иисуса Христа.
— Ну да, — уклончиво отвечаю я.
— В прошлом месяце он исповедался.
— Перед всеми? — Я не могу скрыть удивления и тревоги. Публичное покаяние в присутствии нескольких сотен заново родившихся христиан может бросить пятно на все дело.
— Перед Богом, — уточняет она, снова глубоко затягиваясь сигаретой с марихуаной. Повернувшись, она глядит на меня в упор, распахнутое пальто позволяет видеть налитое тело сформировавшейся женщины. Прекрасное тело. Я ошибся — работать здесь не над чем, она хороша и так.
— Вы христианин? — резко спрашивает она.
— Нет, — отвечаю я, чуть не подпрыгивая на месте. Я не привык к таким вопросам. — Мои родители были христианами. — Добавляя это, я чувствую себя виноватым и, повинуясь внезапному порыву что-то объяснить, уточняю: — Сам я не христианин. — И заливаюсь румянцем.
Она прислоняется спиной к поручню, стоя рядом, но не касаясь меня, выкуривает сигарету до самого фильтра, поднимая глаза на беззвездное небо, затянутое облаками. Время от времени мужчины мечтают все бросить и начать новую жизнь, стать новыми людьми. Мысленно представляя начало такой новой жизни, они встречают женщину. Когда меня посещают такие мысли, женщина всегда носит реальный характер, существуя не в данный конкретный момент, а живя как бы вечно. Такая женщина и стоит сейчас со мной рядом, стоит, прислонившись спиной к поручню.