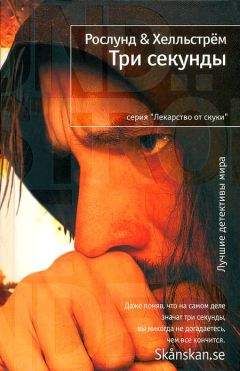Эверт Гренс открыл окно. Он частенько открывал окно в полночь — послушать, как бьют часы на церквах, Кунгхольмской и еще на одной, местонахождение которой ему никак не удавалось определить. Он знал только, что церковь эта довольно далеко, и по вечерам еле слышный звук не достигает Управления, его гасит ветер. Гренс бродил по кабинету. Странное чувство: первые вечер и ночь в полицейском управлении без звучащего из темноты голоса Сив Мальмквист. Гренс привык подремывать, слушая какую-нибудь собственноручно записанную кассету.
Теперь здесь не было ничего, что хотя бы напоминало покой.
Раньше Гренс никогда не думал о ночных звуках, переливающихся за окном, и теперь его бесили автомобили на Бергсгатан и даже машины на Хантверкаргатан, газующие на крутом склоне. Гренс закрыл окно и теперь сидел во внезапно наступившей тишине; компанию ему составлял факс, только что пришедший от Клёвье из шведского Интерпола. Гренс прочитал запись проведенного по требованию шведской полиции допроса польского гражданина, который пару лет назад снимал квартиру в доме номер семьдесят девять по Вестманнагатан. Мужчина, чье имя Гренс едва мог выговорить, сорока лет, родился в Гданьске, проживает в Варшаве. Мужчина, которого до этого не привлекали к суду, не подозревали ни в каких преступлениях и который, по словам проводившего допрос польского полицейского, вне всякого сомнения находился в Варшаве в тот момент, когда в Стокгольме было совершено убийство.
Ты каким-то образом замешан в это дело.
Эверт Гренс держал в руках плотно исписанный листок.
Когда мы приехали, дверь была заперта.
Он поднялся и вышел в темный коридор.
Признаков взлома не было; вообще ничто не указывало на применение силы. Два стаканчика кофе из автомата. Значит, проник в квартиру и вышел оттуда кто-то, у кого был ключ. Булочка с сыром в целлофановой обертке, банановый йогурт из автомата. Кто-то, кто связан с тобой.
Гренс постоял в тишине и темноте, выпил стаканчик кофе и съел полстаканчика йогурта, а булочку бросил в мусорную корзину. Слишком черствая даже для него.
Здесь ему было спокойно, надежно.
Большое уродливое здание полицейского ведомства, ловушка для одних полицейских и угроза для других, было единственным местом, где Гренс мог существовать. Здесь он всегда находил чем заняться, он принадлежал этим коридорам, мог даже спать на диване для посетителей, а от долгих ночей сбежать на балкон с видом на Свеавэген и на столицу, которая никогда не спит.
Гренс вернулся в единственный кабинет следственного отдела, где горел свет, подошел к запакованной музыке, слегка пнул коробки. Он даже не был на похоронах. Оплатил похороны, но не ходил на них. Он снова пнул коробку, на этот раз сильнее. Ах, если бы он пошел тогда на похороны! Тогда бы она, может быть, оставила его по-настоящему.
Факс от Клёвье так и лежал на столе. Гражданин Польши, который никоим образом не мог быть связан с мертвым телом. Гренс выругался, пересек кабинет наискосок и пнул коробку в третий раз, от его ботинка в картоне осталась дыра. Он так и топчется на одном месте. Все, что он знает, — это что двое шведов оказались в некой квартире в тот момент, когда польские мафиози продавали там наркотики; одного из шведов убили, второй шепотом сообщил об этом по телефону доверия, стоя в кухне возле холодильника, — швед, говорящий без акцента, в этом Кранц был уверен.
Ты был там и позвонил, когда произошло убийство.
Гренс больше не пинал коробки.
Ты либо убийца, либо свидетель.
Гренс присел, нагнулся над коробкой и прикрыл пробитую им дырку.
Убить, обставить все как самоубийство, а потом вызвать полицию… Убийцы так не делают.
Сидеть, привалившись спиной к запретной музыке, было приятно, и Гренс решил остаться на жестком полу, в темноте, до самого утра.
Ты — свидетель.
Два часа он просидел у окна, наблюдая за огоньками — в вышине они казались маленькими, но, снижаясь в темноте к посадочной полосе аэропорта имени Шопена, увеличивались. Незадолго до полуночи Хоффманн лег не раздеваясь на жесткую гостиничную кровать и попытался уснуть, но скоро встал. День, начавшийся убийством, которому он стал свидетелем, и продолжившийся предложением продавать наркотики в шведских тюрьмах, все не кончался в нем, этот день шептал и кричал, и Хоффманн не мог заткнуть уши и дождаться сна.
За окном бушевал ветер. Гостиница «Окенче» располагалась всего в восьмистах метрах от аэродрома. Ветер играл на открытых пространствах, и, когда деревья качались, огоньки были всего красивее. Хоффманну нравилось сидеть так ночами и смотреть на самый край польской земли. Он смотрел — но не становился ее частью, хотя здесь должен бы чувствовать себя дома, здесь его двоюродные братья и сестры, и тетки, и дядька, он похож на них и говорит, как они, — но не принадлежит их миру.
Он вообще никто.
Он лгал Софье — и она крепко обнимала его. Он лгал Хуго и Расмусу — и они висли на нем, своем папе. Он лгал Эрику. Он лгал Генрику. Только что он солгал Збигневу Боруцу и запил свою ложь зубровкой.
Он врал так долго, что забыл, как выглядит и как ощущается правда и кто он сам.
Огоньки превратились в большой самолет, заходящий на посадку, самолет накренился в сильном боковом ветре, и шасси несколько раз ударились об асфальт, прежде чем самолет сел и покатился по направлению к недавно построенному залу прилета.
Хоффманн прислонился к окну, уперся лбом в холодное стекло.
День шептал и кричал и все не кончался.
На его глазах человек перестал дышать. Хоффманн слишком поздно понял, что происходит. У них было одно и то же задание, они играли в одну игру, но каждый на своей стороне. Человек, у которого, может быть, были дети, женщина, который тоже, наверное, увяз во вранье так глубоко, что перестал понимать, кто он.
Меня зовут Паула. А как звали тебя?
Он все сидел на подоконнике, продолжал смотреть в темноту и — плакал.
В полночь в номере гостиницы в нескольких километрах от центра Варшавы Хоффманн сидел с самой настоящей человеческой смертью в объятиях и плакал до изнеможения; сон овладел им, и Хоффманн беспомощно провалился во что-то черное, лгать чему было невозможно.
Эверт Гренс проснулся, когда первые лучи пробились сквозь тонкие занавески и ударили по глазам. Он сидел на полу, привалившись к трем поставленным друг на друга картонным коробкам; чтобы не видеть рассвета, он улегся на жесткий линолеум и продремал еще часа два. Гренс выбрал хорошее место, чтобы поспать; спина почти не болела, а негнущаяся нога, которой не нашлось бы места на мягком диване, почти все время лежала вытянутой.
Больше он здесь ночевать не будет.
Он вдруг проснулся окончательно, перевернулся на живот и с опаской ощупал свое тяжелое тело. Взял пахучий синий маркер из банки на рабочем столе и написал на коричневом картоне: «ПС, Мальмквист».
Гренс посмотрел на заклеенные скотчем коробки и рассмеялся. Он спал рядом с запакованной музыкой — и впервые за долгое время хорошо отдохнул.
Пара танцевальных па, никто не пел, никто не играл — танцы с несуществующей партнершей.
Он поднял верхнюю коробку; она оказалась слишком тяжелой, и он ногами выпихнул ее из кабинета, протолкал через весь коридор до самых лифтов. Спуститься на три этажа, в подвал, в хранилище. На верхней стороне коробки он тем же фломастером написал «1936–12–31» — номер дела. Очередной коридор, еще темнее предыдущего; взмокший Гренс пинал коробку вперед, пока не добрался до двери, открытой в ожидании изъятых вещей.
— Эйнарссон.
Молодой служащий из гражданских за низкой деревянной стойкой, старой-престарой. При виде ее Гренс каждый раз вспоминал прилавок в продуктовом магазине, куда часто заходил по пути из школы домой, когда был маленьким; магазинчик возле Оденплан давным-давно снесли, теперь там кафе для подростков, они пьют там кофе с молоком и хвастаются друг перед другом мобильными телефонами.
— Да?
— Я хочу, чтобы Эйнарссон позаботился вот об этом.
— Но я…
— Эйнарссон.
Молодой служащий фыркнул, но ничего не сказал; он вышел из-за стойки и привел ровесника Эверта. Черный передник охватывал круглое туловище.
— Эверт.
— Тор.
Отличный полицейский, который, прослужив не один десяток лет, вдруг сел и объявил, что все это дерьмо уже видеть не может, не то что расследовать. Они тогда много говорили об этом, и Эверт понял: так бывает, когда человеку есть ради чего жить, когда не хочется потратить всю свою жизнь на бессмысленные смерти. Эйнарссон так и сидел там, пока начальство не открыло двери, ведущие в цокольный этаж, к коробкам с изъятыми вещами, которые хоть и были частью текущих расследований, но не требовали задерживаться по вечерам.