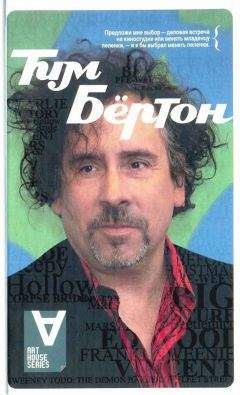— Мы должны поучаствовать в шоу.
— Ты не умеешь петь, — заметил Марв.
Дотти взмахнула ложкой:
— Нет, не в этом. В том, где люди ездят по миру, ищут подсказки и разные предметы.
— В «Удивительной гонке»?
Она кивнула.
Марв потрепал ее по руке:
— Дотти, ты моя сестра, и я тебя люблю, но при твоей слабости к мороженому и моей — к сигаретам к нам же придется приставить целую команду с дефибрилляторами. И через каждые десять шагов гонки мы будем получать по электрическому разряду: «Бзз! Бзз!»
Дотти уже скребла ложкой по дну вазочки.
— Было бы весело. Мы бы столько всего повидали.
— Повидали чего?
— Другие страны, другую жизнь.
Марва вдруг осенило: когда они, на хрен, возьмут общак, ему нужно будет уехать из страны. Иначе нельзя. Господи! Попрощаться с Дотти? Нет, даже не прощаясь. Просто уехать. О блин, сколько приходится платить за все это!
— Ты был сегодня у папы?
— Заходил.
— Они хотят получить деньги, Марв.
Марв окинул взглядом комнату:
— Кто?
— Дом престарелых, — сказала Дотти.
— Они получат. — Марв раздавил сигарету, внезапно обессилев. — Они их получат.
Дотти поставила вазочку из-под мороженого на столик между ними.
— На этот раз звонили не из дома престарелых, а из коллекторского агентства. Понимаешь? Расходы на бесплатную медицину урезают, я выхожу на пенсию… Его просто выкинут.
— Куда?
— В место похуже.
— Разве такие бывают?
Дотти внимательно посмотрела на него:
— Может, уже пора?
Марв закурил, хотя в горле еще першило от предыдущей сигареты.
— Ты предлагаешь его убить. Нашего отца. Он стал обузой.
— Он уже мертв, Марв.
— Да ну? А почему тогда тот аппарат попискивает? А волны на экране? Это ведь жизнь.
— Это электрические импульсы.
Марв закрыл глаза. Темнота была теплой, манящей.
— Разве я не прикладывал сегодня его ладонь к своему лицу? — Он открыл глаза, глядя на сестру. — Я чувствовал ток его крови.
Они оба сидели молча, пока «Американский идол» не сменился очередным рекламным блоком, тогда Дотти откашлялась и раскрыла рот.
— В другой жизни я поеду в Европу, — сказала она.
Марв встретился с нею взглядом и кивнул в знак признательности.
Спустя минуту он тронул рукой ее колено:
— Хочешь еще «Роки-роуд»?
Дотти протянула ему вазочку.
Когда Эвандро Торресу было пять лет, он застрял на чертовом колесе в парке Парагон на пляже Нантаскет. Родители позволили ему прокатиться одному. До сего дня он не мог понять, о чем они вообще думали, не мог до конца поверить, что работники парка позволили пятилетке самому усесться в кабинку, которая поднималась на сотню футов над землей. Впрочем, в те времена люди не особенно задумывались о безопасности детей: ты просишь папашу пристегнуть тебе ремень, когда он гонит по шоссе девяносто пять миль в час, зажав между коленями большую банку «Шлитца», а он протягивает тебе свой галстук и предлагает поиграть с ним.
В общем, маленький Эвандро был на самом верху, когда колесо застопорило, он сидел под белесым солнцем, лучи которого жалили лицо и голову, словно рой пчел, слева от себя он видел парк, часть Халла и Уэймут за ним. Он даже мог разглядеть некоторые части Куинси. А справа от него расстилался океан — океан, океан, а потом острова Харбор и над ними — небо Бостона. И он понял, что именно так видит мир Бог.
Его стало знобить, когда он осознал, насколько маленькое и хрупкое все вокруг — каждый дом, каждый человек.
Когда колесо наконец-то снова закрутилось, опустив его вниз, все решили, что он плачет, перепугавшись высоты. Сказать по правде, с тех пор он не особенно жаловал высоту, но плакал он не поэтому. Он плакал — причем так долго, что по дороге домой его отец, Гектор, пригрозил вышвырнуть Эвандро на ходу из машины, — потому что понял, что жизнь конечна. Да-да, говорил он одному психиатру, которого навещал после второго понижения в должности, я это осознал — все мы знаем, что жизнь когда-нибудь закончится. Но на самом деле не сознаем этого. Где-то в глубине души надеемся, что сумеем выкрутиться. Нам кажется, что-нибудь произойдет и все изменится: будет сделано какое-нибудь научное открытие, случится второе пришествие, все что угодно — и мы будем жить вечно. Но в пять лет — всего-навсего в пять — он с кристальной ясностью осознал, что он, Эвандро Маноло Торрес, умрет. Возможно, не сегодня. Но когда-нибудь после он все равно умрет.
От этой мысли у него в мозгу затикали часы, а в сердце начал звонить колокол, отбивая каждый час.
Поэтому Эвандро молился. И ходил к мессе. И читал свою Библию. И старался каждый день разговаривать с нашим Спасителем, с Отцом Небесным.
И слишком много пил.
И время от времени слишком много курил и даже коксовал: две крайне дурные привычки, которым он предавался уже больше пяти лет.
А еще он любил жену и детей, старался, чтобы они знали об этом и ощущали его любовь каждый божий день.
Только этого было мало. Пропасть, на хрен, — чертова бездна, дыра, пустота в сердцевине — не смыкалась. Неизвестно, что видели остальные, глядя на него, сам же Эвандро, глядя на себя, видел бегущего человека. Бегущего к какой-то точке на горизонте, которой ему никогда не достичь. И однажды в разгар этого забега огни просто погаснут. И больше никогда уже не зажгутся. Не в этом мире.
И от этого часы тикали все быстрее, колокол звонил все громче, и Эвандро чувствовал себя безумным, беспомощным, ему вечно требовалось что-нибудь — что угодно, — чтобы удержаться в настоящем.
И этим «что-нибудь», с тех пор как он достаточно подрос, чтобы об этом узнать, была похоть.
Именно поэтому он оказался в постели Лизы Ромси, первый раз за последние два года, но оба они как будто и не расставались ни на минуту, сейчас же почувствовали ритм друг друга, не успев упасть на кровать, их дыхание и кожа пахли алкоголем, но это было горячее дыхание, горячая кожа. И, кончив, Эвандро прочувствовал это каждой клеточкой тела. Лиза кончила вместе с ним, громкий стон вырвался из ее горла, уносясь к потолку.
Ему потребовалось четыре секунды, чтобы оторваться от нее, и еще пять, чтобы пожалеть о том, что вообще все это затеял.
Ромси села на постели и потянулась через него к бутылке красного вина на ночном столике. Отхлебнула из горла.
— Боже! — сказала она. — Черт! — сказала она. — Дерьмо! — И протянула бутылку Торресу.
Он сделал глоток.
— Слушай, такое случается.
— Это не значит, что так должно быть, ты, дурья башка.
— Почему «дурья башка»?
— Потому что ты женат.
— Неправильно женат.
Ромси забрала у него бутылку.
— Ты хочешь сказать, несчастливо.
— Нет, — сказал Торрес. — Я хочу сказать, что мы по большей части счастливы, просто мы не выполняем всех положенных правил, касающихся семьи и верности. Для нас это как чертова теория струн. Господи, завтра мне предстоит смотреть в глаза своему духовнику, признаваясь в этом дерьме.
— Ты самый скверный католик, о каком я когда-либо слышала, — сказала Ромси.
При этих словах Торрес широко раскрыл глаза и хмыкнул:
— Ничего подобного.
— Разве это не так, мистер Грешник?
— Дело не в грехах, — пояснил он. — Дело в том, чтобы согласиться, что ты родился падшим и жизнь дана, чтобы искупить вину.
Ромси закатила глаза:
— В таком случае почему бы тебе не вытащить свою задницу из моей постели и не убраться?
Торрес вздохнул и выбрался из-под простыней. Сел на край кровати, натянул брюки, поискал свою рубашку и носки. Заметил в зеркале, что Ромси смотрит на него, и понял, что, несмотря на все ее усилия, он все равно нравился ей.
Чудны дела твои, Господи!
Ромси закурила.
— После того как ты уехал, я кое-что разузнала о твоем баре — «Баре Кузена Марва».
Торрес нашел только один носок.
— Правда?
— Он упоминается в связи с нераскрытой пропажей человека десять лет назад.
Торрес на мгновение забыл о втором носке. Он поднял на Ромси глаза:
— Это точно?
Ромси протянула руку себе за спину и вернула ее так быстро, что он не успел увидеть, что там. Она взмахнула рукой, и ему на колено упал его носок.
— Как-то вечером парень по имени Ричард Велан вышел из этого бара, и с тех пор его никто не видел. Может, раскроешь дело десятилетней давности, Эвандро?
— Тогда я смогу вернуться в убойный отдел.
Ромси нахмурилась:
— Ты никогда не вернешься в убойный.
— Почему?
— Ни-ко-гда.
— Почему? — снова спросил он. Ответ он знал, но надеялся, что что-нибудь изменилось.
В ее взгляде отразилась досада.
— Потому что отделом руководит Скарпоне.
— И что?
— А то, что ты, мудила, трахнул его жену. Повез ее домой пьяным, хотя был на дежурстве, и, помимо всего прочего, угробил казенную машину.