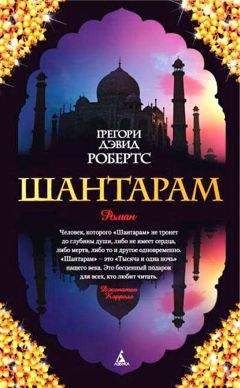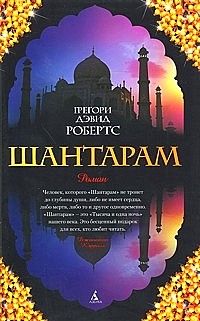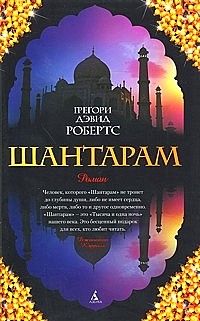Он плюхнулся на стул рядом со мной и подозвал официанта, чтобы заказать выпивку. Я каждый вечер в течение нескольких недель разговаривал с Дидье в «Леопольде», но никогда — наедине. Меня удивило, что он решил присоединиться ко мне, когда рядом не было ни Уллы, ни Карлы, ни кого-либо еще из их компании. Это означало, что он считает меня своим, и я был благодарен ему за это.
Он нетерпеливо барабанил пальцами по столу, пока не прибыло виски, после чего с жадностью опрокинул разом полстакана и лишь затем с облегчением вздохнул и повернулся ко мне, прищурившись и улыбаясь.
— Ты, я вижу, погружен в глубокое раздумье.
— Я думал о «Леопольде» — наблюдал, вникал во все это.
— Жуткое заведение, — обронил он, тряхнув густыми кудрями. — Не могу себе простить, что так люблю его.
Мимо нас прошли двое мужчин в свободных брюках, собранных у щиколоток, и темно-зеленых жилетах поверх доходивших до бедер рубах с длинными рукавами. Дидье смотрел на них очень пристально, и когда они кивнули ему, широко улыбнулся и помахал в ответ. Пара присоединилась к своим друзьям, сидевшим неподалеку от нас.
— Опасные люди, — пробормотал Дидье, глядя все с той же улыбкой им в спину. — Афганцы. Тот, что поменьше, Рафик, торговал книжками на черном рынке.
— Книжками?
— Паспортами. Раньше он был очень большой шишкой, заправлял всей торговлей. Теперь занимается переправкой дешевого героина через Пакистан. Зарабатывает на этом гораздо больше, но зуб на тех, кто выпер его из книжного дела, все же имеет. Тогда положили немало людей — его людей.
Будто услышав его слова — хотя этого никак не могло быть, — афганцы вдруг обернулись и пристально уставились на нас с мрачным видом. Один из сидевших за их столиком наклонился к ним и проговорил что-то, показав на Дидье, а затем на меня. Оба сосредоточили все внимание на мне, глядя прямо в глаза.
— Да, немало людей положили, — повторил Дидье вполголоса, продолжая широко улыбаться до тех пор, пока парочка не отвернулась от нас. — Я ни за что не стал бы ввязываться в какие-нибудь дела с ними, если бы только они не вели их так блестяще.
Он говорил уголком рта, как заключенный под взглядом охранника. Это выглядело довольно забавно. В австралийских тюрьмах это называлось «открыть боковой клапан», и мне живо вспомнилась моя тюремная камера. Я вновь услышал металлический скрежет ключа в замке, почувствовал запах дешевого дезинфектанта и влажный камень у меня под рукой. Подобные вспышки воспоминаний часто бывают у бывших зеков, копов, солдат, пожарников, водителей «скорой помощи» — у всех тех, кто имеет опыт травмирующих переживаний. Иногда эти вспышки происходят совершенно неожиданно в таких неподходящих местах и ситуациях, что вызывают естественную реакцию в виде идиотского непроизвольного смеха.
— Думаешь, я шучу? — вспыхнул Дидье.
— Нет-нет, вовсе не думаю.
— Все так и было, уверяю тебя. Развязалась небольшая война за господство в этой сфере… Смотри-ка, и победители явились сюда же — Байрам и его ребята. Он иранец. В этом деле он был главным исполнителем, а работает он на Абдула Гани, который, в свою очередь, работает на одного из крупнейших мафиози в этом городе, Абдель Кадер Хана. Они выиграли эту войну и прибрали к рукам всю торговлю паспортами.
Он незаметно кивнул на группу молодых людей в модных джинсах и пиджаках, вошедшую в зал через одну из арок. Прежде чем занять столик у дальней стены, они подошли к метрдотелю, чтобы выразить свое почтение. Главным у них был высокий упитанный мужчина лет тридцати с небольшим. Приподняв полное жизнерадостное лицо над головами своих спутников, он обвел взглядом весь зал, уважительно кивая или дружески улыбаясь знакомым. Когда его взгляд остановился на нашем столике, Дидье приветственно помахал ему.
— Да, кровь… — проговорил он, дружелюбно улыбаясь. — Пройдет немало времени, прежде чем эти паспорта перестанут пахнуть кровью. Меня-то это не касается. В еде я француз, в любви итальянец, а в делах швейцарец — строго блюду нейтралитет. В одном я уверен: из-за этих паспортов будет пролито еще много крови.
Взглянув на меня, он похлопал глазами, словно желая сморгнуть навязчивое видение.
— Похоже, я напился, — проговорил он с приятным удивлением. — Давай закажем еще.
— Заказывай себе. Мне хватит того, что осталось. А сколько стоят эти паспорта?
— От сотни до тысячи. Долларов, разумеется. Хочешь купить?
— Да нет…
— Точно так же говорят «нет» бомбейские дельцы, промышляющие золотом. Их «нет» означает «может быть», и чем категоричнее оно звучит, тем вероятнее «может быть». Когда тебе понадобится паспорт, обращайся ко мне, я добуду его для тебя — за небольшие комиссионные, само собой.
— И много тебе удается заработать здесь… комиссионных?
— Ну… не жалуюсь, — усмехнулся он, поблескивая голубыми глазами, подернутыми розовой алкогольной влагой. — Свожу концы с концами, как говорится, и когда они сходятся, получаю плату с обоих концов. Вот только что я провернул сделку с двумя кило манальского гашиша. Видишь парочку возле фруктов — парень с длинными белокурыми волосами и девушка в красном? Это итальянские туристы, они хотели купить гашиш. Некий человек, ты мог заметить его на улице — босой, в грязной рубашке, — зарабатывает там свои комиссионные. Он направил их ко мне, а я, в свою очередь, переправил их Аджаю, который торгует гашишем. Великолепный преступник. Вон, смотри, он сидит вместе с ними, все улыбаются. Сделка состоялась, и моя работа на сегодня закончена. Я свободен!
Он постучал по столу, в очередной раз призывая официанта, но когда тот принес маленькую бутылочку, Дидье какое-то время сидел, обхватив ее обеими руками и глядя на нее в глубокой задумчивости.
— Сколько ты собираешься пробыть в Бомбее? — спросил он, не глядя на меня.
— Не знаю точно. Забавно, в последние дни все только и спрашивают меня об этом.
— Ты уже прожил здесь дольше обычного. Большинство приезжих стремятся поскорее смыться отсюда.
— Тут еще гид виноват, Прабакер. Ты знаешь его?
— Прабакер Харре? Рот до ушей?
— Да. Он водит меня по городу вот уже несколько недель. Я повидал все храмы, музеи и художественные галереи, а также целую кучу базаров. Но он пообещал, что с завтрашнего дня начнет показывать мне Бомбей с другой стороны — «настоящий город», как он сказал. Он меня заинтриговал, и я решил задержаться ради этого, а там уже будет видно. Я никуда не спешу.
— Это очень грустно, если человек никуда не спешит. Я бы на твоем месте не стал так открыто признаваться в этом, — заявил он, по-прежнему не отрывая взгляда от бутылки. Когда Дидье не улыбался, лицо его становилось отвислым, дряблым, мертвенно-бледным. Он был нездоров, но его нездоровье можно было исправить. — В Марселе есть поговорка: «Человек, который никуда не спешит, никуда не попадает». Я уже восемь лет никуда не спешу.
Внезапно его настроение изменилось. Он плеснул напиток в стакан и поднял его с улыбкой:
— Выпьем за Бомбей, в котором так здорово никуда не спешить! И за цивилизованного полисмена, который берет взятки хоть и вопреки закону, но зато ради порядка. За бакшиш!
— Я не против выпить за это, — отозвался я, звякая своим стаканом о его. — Дидье, а что тебя удерживает в Бомбее?
— Я француз, — ответил он, любуясь жидкостью в стакане. — Кроме того, я гей, иудей и преступник. Примерно в таком порядке. Бомбей — единственный город из всех, что я знаю, где я могу быть во всех четырех ипостасях одновременно.
Мы рассмеялись и выпили. Он окинул взглядом большой зал, и его глаза остановились на группе индийцев, сидевших недалеко от входа. Какое-то время он изучал их, потягивая алкоголь.
— Если ты решил остаться, то выбрал подходящий момент. Наступило время перемен. Больших перемен. Видишь вон тех людей, которые с таким аппетитом уплетают свою еду? Это сайники, наемники Шив Сены[31]. «Люди, выполняющие грязную работу» — так, кажется, звучит ваш милый английский эвфемизм. А твой гид не рассказывал тебе о Сене?
— Да нет, не припоминаю такого.
— Думаю, с его стороны это не случайная забывчивость. Партия Шив Сена — это лицо Бомбея в будущем. А их методы и их politique[32], возможно, будущее всего человечества.
— А что у них за политика?
— Ее можно назвать этнической, региональной, языковой. Все люди, говорящие не на нашем языке, — наши враги, — ответил он, скривившись в брезгливой гримасе и загибая пальцы на левой руке. Руки были очень белые, мягкие, а под длинными ногтями по краям было черно от грязи. — Это политика запугивания. Ненавижу всякую политику, а пуще того политиков. Их религия — человеческая жадность. Это возмутительно. Взаимоотношения человека с его жадностью — это сугубо личное дело, ты согласен? На стороне Шив Сены полиция, потому что это партия Махараштры, а большинство рядовых полицейских родом из этого штата. В их руках почти все трущобы, а также профсоюзы и частично пресса. У них есть практически все — кроме денег. Правда, их поддерживают сахарные короли и некоторые торговцы, но настоящие деньги — те, что дает промышленность и черный рынок, — идут парсам и индусам из других городов, а также мусульманам, самым ненавистным из всех. Из-за этих денег и идет борьба, guerre économique[33], а раса, язык, религия — это только болтовня. И каждый день они в большей или меньшей степени меняют лицо города. Даже имя сменили — называют его не Бомбей, а Мумбаи. Правда, пока они пользуются старыми городскими картами, но скоро выкинут и их. Ради достижения своей цели они пойдут на все, объединятся с кем угодно. Возможности у них есть. Очень богатые перспективы. Несколько месяцев назад сайники — разумеется, не те, что занимают видные посты, — заключили договор с Рафиком и его афганцами, а также с полицией. Получив деньги и обещание кое-каких привилегий, полиция прикрыла все опиумные курильни в городе, кроме нескольких. Десятки прекрасных салонов, посещавшихся поколениями добропорядочных граждан, за какую-нибудь неделю прекратили свое существование. Навсегда! Меня, в принципе, не интересует ни политический свинарник, ни, тем более, скотобойня большого бизнеса. Единственное, что превосходит политический бизнес в жестокости и цинизме — это политика большого бизнеса. Но тут они сообща накинулись на традиционную торговлю опиумом, и это выводит меня из себя. Что такое Бомбей без его чанду — опиума и опиумных притонов, позвольте спросить? Куда мы катимся? Это просто позор.