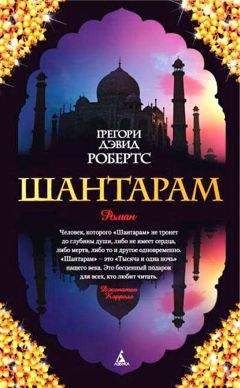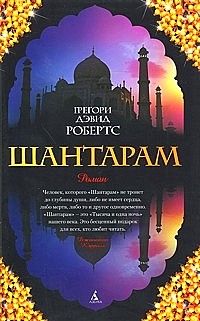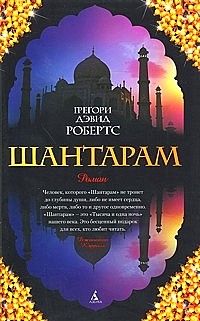— Знаешь, Лин, с тобой можно иметь дело, честное слово! Правда, мое слово вряд ли имеет большой вес в обществе.
Он осушил стакан, со стуком опустил его на стол и вытер коротко подстриженные усики тыльной стороной ладони. Поймав мой непонимающий взгляд, он наклонился, почти вплотную приблизив свое лицо к моему.
— Позволь мне кое-что тебе объяснить. Посмотри вокруг. Сколько человек ты видишь в зале?
— Ну, может быть, шестьдесят или восемьдесят.
— Восемьдесят человек. Греки, немцы, итальянцы, французы, американцы. Туристы со всех концов света. И местные — индийцы, иранцы, арабы, афганцы, негры. Все они едят, пьют, болтают, смеются. Но сколько из них являются по-настоящему сильными личностями, осознают свое назначение, обладают энергией, которая необходима, чтобы руководить жизнью тысяч людей в том месте и в тот исторический момент, в котором они живут? Я тебе скажу, сколько: четыре. Четыре человека в этом зале — действительно крупные фигуры, а остальные — такие же, каковы люди повсюду: бессильные, пребывающие в спячке, ничем не примечательные. А когда вернется Карла, к четырем сильным личностям прибавится пятая. Вот что такое Карла, которую ты назвал интересной. Но по выражению твоего лица, мой юный друг, я вижу, что ты ни хрена не понимаешь из того, что я говорю. Я скажу по-другому: Карла — очень хороший друг, но как враг она просто несравненна. Когда пытаешься оценить силу человека, нужно понять, что он собой представляет как друг и как враг. Так вот. Во всем этом городе нет никого, кто был бы более сильным и опасным врагом, чем Карла.
Он испытующе уставился прямо мне в глаза, словно выискивая что-то то в левом, то в правом.
— Ты же понимаешь, о какой силе я говорю. О настоящей. О той, которая может заставить людей сиять, как звезды, а может стереть в порошок. О силе, окруженной тайной, страшной тайной. О власти, позволяющей жить, не испытывая угрызений совести и сожалений. Вот у тебя, Лин, было в жизни что-нибудь такое, что не дает тебе покоя? Случалось тебе совершать поступки, о которых ты сожалеешь?
— Ну, конечно…
— Да. Разумеется. И мне тоже… Я сожалею о многом, что я в свое время сделал… или не сделал. А Клара не сожалеет ни о чем. И потому она принадлежит к кучке избранных, обладающих властью над миром. У нее такое же сердце, как у них, а у нас с тобой — не такое. Но, прости, я уже немного пьян, а между тем мои итальянцы собираются уходить. Аджай же не будет ждать долго. Надо забрать свои скромные комиссионные, а потом уже можно будет напиться до победного конца.
Он откинулся на стуле, затем, опершись обеими пухлыми руками о крышку стола, тяжело поднялся и, не говоря больше ни слова, направился в сторону кухни. Я наблюдал за тем, как он лавирует между столиками пружинистой раскачивающейся походкой опытного выпивохи. Его спортивный пиджак был помят — спинка стула, в которую он упирался, оставила на нем складки; брюки неряшливо обвисали. Лишь спустя какое-то время, познакомившись с Дидье ближе, я понял все значение того факта, что он прожил в Бомбее восемь лет в гуще страстей и преступлений, не нажив ни одного врага и не заняв ни одного доллара, а поначалу я считал его безнадежным пьяницей, хоть и приятным собеседником. В эту ошибку было нетрудно впасть, тем более что он сам всячески способствовал этому.
Первое правило любого подпольного бизнеса: не допускай, чтобы другие знали, что ты думаешь. Дидье дополнил это правило: необходимо знать, что другие думают о тебе. Неопрятная одежда, спутанные курчавые волосы, не расчесанные с тех пор, как они прижимались к подушке предыдущей ночью, даже его пристрастие к алкоголю, намеренно преувеличенное с целью создать видимость неизлечимой привычки, — все это были грани того образа, который он культивировал, разработав до мелочей, как актер свою роль. Он внушал окружающим, что он беспомощен и безвреден, потому что это было прямой противоположностью правде.
В тот момент, однако, я не успел привести в порядок свои мысли относительно личности Дидье и его умопомрачительных откровений, так как вернулась Карла и мы почти сразу же покинули ресторан. Мы проделали долгий путь пешком по набережной, которая проходит от Ворот Индии до гостиницы Дома радио. Длинный широкий проспект был пуст. Справа от нас за цепочкой платанов тянулись отели и жилые дома. Кое-где в домах горел свет, представляя на обозрение уголок интерьера в обрамлении оконной рамы: скульптуру возле одной из стен, полку с книгами на другой, затянутое дымкой благовоний изображение какого-то индийского божества, украшенное цветами, и сбоку две тонкие руки, сложенные в молитвенном заклинании.
Слева открывался простор самой большой в мире гавани; на темной воде поблескивали звездочки сигнальных огней нескольких сотен судов, стоявших на якоре. А еще дальше, на самом горизонте, дрожало сияние прожекторов, установленных на башнях морских нефтяных платформ. Луны на небе не было. Приближалась полночь, но воздух был таким же теплым, как в середине дня. Прилив Аравийского моря время от времени перебрасывал через невысокий каменный парапет клочья поднятой самумом водяной пыли, клубившейся над морской поверхностью до самых берегов Африки.
Мы шли не спеша. Я то и дело поднимал голову к небу, так плотно набитому звездами, что черная сеть ночи, казалось, вот-вот лопнет, не в силах удержать этот сверкающий улов. В заключении ты годами не видишь восходов и заходов солнца, ночного неба. Шестнадцать часов в сутки, всю вторую половину дня и до позднего утра ты заперт в камере. Лишая тебя свободы, у тебя отнимают и солнце, и луну, и звезды. Тюрьма — поистине не царство небесное, и хотя она не ад, в некоторых отношениях приближается к нему.
— Знаешь, ты иногда чересчур старательно демонстрируешь свое умение слушать собеседника.
— Что?.. О, прости, я задумался. — Я поспешил стряхнуть посторонние мысли. — Кстати, чтобы не забыть: вот деньги, которые мне дала Улла.
Она взяла сверток и запихнула в сумочку, не взглянув на него.
— Странно, в общем-то, если вдуматься. Улла сошлась с Моденой, чтобы освободиться от другого человека, который эксплуатировал ее, как рабыню. А теперь она стала в определенном смысле рабыней Модены. Но она его любит и потому стыдится, что ей приходится утаивать от него часть заработка.
— Некоторые люди могут жить только в качестве чьего-то раба или хозяина.
— Если бы только «некоторые»! — бросила Карла с неожиданной и непонятной горечью. — Вот ты говорил с Дидье о свободе, и он спросил тебя «свобода делать что?», а ты ответил «свобода сказать „нет“». Забавно, но я подумала, что гораздо важнее иметь возможность сказать «да».
— Кстати, о Дидье, — произнес я небрежным тоном, стремясь отвлечь ее от темы, которая была для нее, по-видимому, тягостна. — Я довольно долго говорил с ним сегодня, пока ждал тебя.
— Думаю, говорил в основном Дидье.
— Ну, да. Но я с удовольствием слушал его. У нас с ним еще не было такого интересного разговора.
— Что он тебе рассказал? — резко спросила Карла.
Ее вопрос немного удивил меня. Можно было подумать, есть что-то такое, о чем Дидье не должен был рассказывать мне.
— Он рассказал мне кое-что о посетителях «Леопольда» — афганцах, иранцах и этих… сайниках Шивы, или как там они называются, а также о главарях местной мафии.
Карла скептически фыркнула.
— Не стоит слишком серьезно относится к тому, что говорит Дидье, особенно если он говорит это серьезным тоном. Он часто судит очень поверхностно. Я однажды сказала ему, что от него не услышишь ничего, кроме недвусмысленностей, и, как ни странно, это ему понравилось. В чем его не упрекнешь — так это в чрезмерной обидчивости.
— Мне казалось, вы с ним друзья, — заметил я, решив, что не стоит передавать Карле того, что Дидье говорил о ней.
— Друзья… Знаешь, иногда я задаю себе вопрос: «А существует ли дружба на самом деле?» Мы знаем друг друга уже много лет, и даже жили вместе когда-то. Он тебе об этом не рассказывал?
— Нет.
— Так вот. Жили, целый год, когда я только-только приехала в Бомбей. Мы снимали на двоих совершенно невообразимую полуразвалившуюся квартирку в районе порта. Дом буквально рассыпался на глазах. Каждое утро мы смывали с лица мел, оседавший с потолка, а в передней находили вывалившиеся куски штукатурки, кирпичей, дерева и прочих материалов. Пару лет назад во время муссонного шквала здание развалилось-таки, и погибло несколько человек. Иногда я забредаю туда и любуюсь небом сквозь дыру в том месте, где была моя спальня. Наверное, можно сказать, что мы с Дидье близки. Но друзья ли мы? Дружба — это своего рода алгебраическое уравнение, которое никому не удается решить. Порой, когда у меня особенно плохое настроение, мне кажется, что друг — это любой, кого ты не презираешь.
Она говорила вполне серьезно. Тем не менее, я позволил себе усмехнуться.