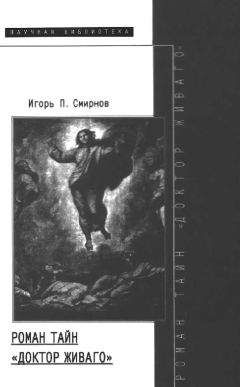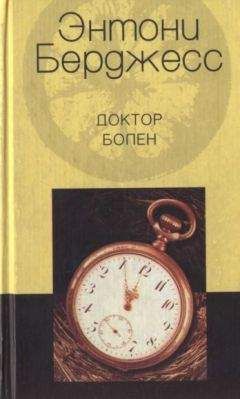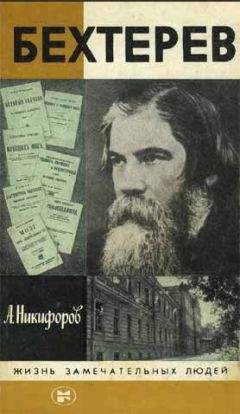был сдержан, минутами резок и, коварно заставив ее разговориться, в свою очередь дал ей понять, что роль медика допускает всевозможные способы лечения и что в искусственном поддержании жизни калек нет ровно ничего гуманного. «Знаете, княгиня, — говорил я ей, — в сущности, нет ни малейшего резона поддерживать подгнивающий худосочный организм, в котором бьется опечаленная грустная душа. Страдающий субъект с прекращением жизни только выигрывает в смысле уничтожения страданий. Человеколюбие должно заключаться только в одном: в уменьшении страданий на земле. Поддерживая слабые существования, мы достигаем как раз обратного — увеличения страданий. Люди, одержимые слабостью, называемой любовью к ближнему, обладают родом слепоты: они не хотят видеть, что, спасая несчастных, они обрекают их на мучения; жестокие умы часто видят дальше: отсекая голову, они уничтожают боль. Я допускаю мысль, что какой-нибудь Каракалла, бросавший тысячи людей в Тибр и на съедение зверям, уменьшил сумму страданий на земле, а Людовик Святой — увеличил. Кроме того, он вызвал чувство проникновения жалостью — оно мучительно. Стоит только подумать обо всем этом хорошенько, чтобы сердце превратилось в камень. Не удивляйтесь, княгиня Тамара Георгиевна, если я кажусь вам злым».
— Доктор, вы мой добрый гений, я знаю, что вы свято исполните обязанность медика в отношении бедных детей моего доброго старого мужа: они будут здоровы.
Все это она проговорила с особенным выражением лица: оно светилось насмешкой, губы смеялись и в глазках еще ярче засверкали искорки. Я склонился к ее уху и прошептал:
— Ваш муж с его детьми и ваша личная свобода и возможность наслаждения — условия несовместимые. Княгиня, вы, конечно, понимаете, насколько затруднительно в этом случае положение доктора.
— Вам надо только приучить себя к мысли, что у вас один пациент — я, проговорила она шепотом, склонившись ко мне на плечо. Я взял ее за руки и строго посмотрел ей в лицо.
— Знаете, княгиня, такая близость с такой роскошной женщиной, как вы, может возмутить холодное спокойствие медика, и он может подвергнуться модной болезни сердца — любви.
— Что ж такое, — влюбитесь, доктор, эта болезнь не смертельна, — воскликнула она с громким хохотом и вдруг, положив руки на мои плечи, начала выразительно смотреть на меня.
— Если бы я вам сказал, что вас люблю — вы поверили бы мне?
— Почему же нет? Говорят, это чувство очень своеобразно, и к тому же, любовь смиренная нисколько не может нарушить моего покоя; другое дело вулканическая и пылкая; но против нее у меня имеется крепкий оплот в лице моего мужа.
— Этот оплот — груду старых костей — можно столкнуть одним движением…
Я проговорил это с неожиданной для нее пылкостью и, взяв ее руки, привлек к себе… На минуту она замерла в моих объятиях и, как бы нечаянно ответив на мой поцелуй тихим движением губ, высвободилась из моих рук и отбежала.
— Доктор, теперь я вижу, что под ледяной холодностью вашей внешности скрывается огненный дух. Оригинально. К своим советам попробовать влюбиться в меня я буду относиться осторожнее.
И, глядя на меня пламенными глазами, она с тонкой улыбкой продекламировала:
Но и под снегом иногда
Бежит кипучая вода.
На длинном мраморном столе анатомической камеры лежал труп. Это было тело грузина, который покончил с дальнейшим своим существованием посредством отравления, и мне было предложено с помощью вскрытия найти в его внутренностях присутствие яда.
Моя работа всегда сопровождалась процессом особого рода злобы во мне. На этот раз это чувство во мне явилось в сопровождении целого роя холодных мыслей, получивших почти осязательную реальность. Они кружились и вились в моей голове, подобно вещим ведьмам, умеющим только холодно смеяться. Очень может быть, что с большинством хирургов никаких подобных процессов не бывает и они выполняют свой роль автоматически, без мыслей в голове. Для них труп только труп и ничего больше, но со мной происходило иное: глядя на холодное, отвратительное тело мертвеца, я мысленно воссоздавал всю его жизнь с его стремлениями, надеждами, верой — и откуда все бралось? Нервы, мускулы, клеточки — все это здесь, под моим скальпелем, и мне до отвращения делалось ясным, что человек — машина, только машина и больше ничего. Вот он предо мной, весь этот дивный аппарат, с своими тончайшими струнами, разносящими мелодию сердца к другому аппарату — мозгу, где миллионы других тончайших струн, результатом своих движений, порождают весь океан человеческой мысли. В конце концов, все прошлое человечества, вся мировая поэзия, все светлые грезы о счастье, истине и любви — все это — порождение механического движения машины, и потому не могут быть ничем иным, как колоссальным самообманом. Мы так или иначе мыслим и чувствуем в зависимости от совершенства нашего устройства, точно так же, как различные инструменты издают те или иные звуки — смотря по искусству их мастера; порвите одну струну, и музыка получится иная, порвите струну на лире человеческой души — нерв, и человек заговорит иначе. Прославленный Шекспир есть не более как чудесная, висевшая над миром Эолова арфа великого мастера — природы. Она прозвучала «Ромео и Джульеттой», но если бы в ней была порвана хоть одна струна, или иначе, хоть один нерв в голове певца, то песнь получилась бы совершенно иная, могущая усладить слух разве сумасшедших. Картина, собственно, получается обидная для нашего самолюбия и вывод грустный: люди — марионетки с бесконечным количеством ниточек и штифтиков: невидимая рука нажимает на штифтик — собственные руки автомата подымаются к небесам и он произносит: «Алла»; рука нажимает другой штифтик: марионетка извлекает меч и летит убивать врага; задвигались новые клапанчики — марионетка-ученый исписывает фолианты книг о любви к ближним, причем музыку своей арфы-души принимает за доказательство истины, бессознательно вдохновляет автоматов, называемых народами, и вот люди обнимаются в братском единодушии для того, чтобы потом, под влиянием новых впечатлений, осмеять свою чувствительность и, извлекши мечи, перебить друг друга. Так это всегда и происходило, и история есть не более как различные сцены гигантской трагикомедии мира, разыгрываемой людьми под влиянием возбуждения в их организмах тех или иных нервов. Все это, может быть, и вполне целесообразно с точки зрения физиологической, но люди напрасно упразднили владычество сатаны над миром: он со своим штатом подвластных ему духов мог бы, по крайней мере, быть зрителем трагикомедии, разыгрываемой всеми нами, и оглушительно громко хохотать.
Ну-с, господа, вы полагаете, вероятно, что такие рассуждения — опасная крайность. Что ж, обратитесь в таком случае к вере, ведь другого выхода нет: