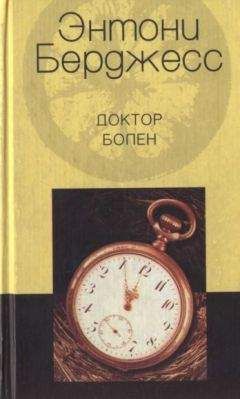Энтони Берджесс
Доктор болен
— А это чем пахнет? — спросил доктор Рейлтон. И сунул под нос Эдвину нечто вроде чернильницы.
— Я могу ошибиться, но сказал бы — мята перечная. — Эдвин ждал гонга ведущего викторины. Слышалось, как за расставленными вокруг его койки ширмами на колесиках ест остальная палата.
— Боюсь, вы в самом деле ошиблись, — объявил доктор Рейлтон. — Лаванда. — Гонг. Но Эдвин еще в игре. — А это?
— Наверно, что-то цитрусовое.
— Снова ошиблись. Жестоко ошиблись. Гвоздика. — В мягком голосе тон морального осуждения. Доктор Рейлтон мягко сел на край койки. Мягко, женскими карими глазами с длинными ресницами, взглянул на Эдвина сверху вниз. — Не совсем хорошо, да? Совсем не хорошо. — Ножи и вилки слабо постукивали и поскребывали инвалидным оркестром.
— Я простужен, — оправдался Эдвин. — Резкая перемена климата. — Умирающий английский год постукивал в окна палаты, будто выпрашивал койку. — Когда мы выезжали из Моламьяйна, было сильно за девяносто[1].
— Ваша жена приехала с вами?
— Да. Официально, как моя сиделка. Но почти все время страдала воздушной болезнью.
— Ясно. — Доктор Рейлтон кивал и кивал, словно все было действительно очень серьезно. — Ну, придется нам провести разные прочие тесты. Конечно, не сейчас. В понедельник как следует примемся за работу. — Эдвин расслабился. Доктор Рейлтон, подметив это, выхватил камертон. И поднес его сверху, шкварчащий, как кочерга, к правой щеке Эдвина. — Чуете?
— Среднее до.
— Нет-нет, чуете?
— О да.
Мрачный вид доктора Рейлтона лишил Эдвина всякого триумфа. Доктор быстро сделал свой ход:
— Как бы вы определили «спираль»?
— Спираль? О, понимаете, вроде винтовой лестницы. Вроде шурупа. — Обе руки Эдвина принялись описывать спираль в воздухе. — Поднимается выше, выше, все время вращаясь, но с каждым витком постепенно уменьшается, уменьшается, пока просто совсем не исчезнет. — Глаза его умоляли принять определение.
— Правильно, — подтвердил доктор Рейлтон с той самой своей новой мрачностью. — Правильно. — Но имел в виду явно не определение. — А теперь, — сказал он, поднявшись с края койки, грубо толкнув окружавшие ее ширмы, которые скрипуче проехали на колесиках около ярда, с ошеломляющей неожиданностью явив взору едоков мороженого. — Встаньте с койки, — велел новый, грубый доктор Рейлтон, жестом приказывая прекратить симуляцию. Пояс пижамных штанов Эдвина потерялся где-то между Моламьяйном и Лондоном; вспыхнув, он подтянул выше щиколоток полосатые обшлага. Едоки мороженого спокойно смотрели, как будто рекламу по телевизору. — А теперь, — приказал доктор Рейлтон, — пройдите по абсолютно прямой линии отсюда вон до того человека. — Указал на возбужденного с виду пациента, который кивнул, как бы выражая готовность участвовать в любом полезном эксперименте, пациент, заключенный в клетки со змеями резиновых трубок. Эдвин пошел, как пьяный.
— Порядок, — ободрил его возбужденный пациент. — Здорово выходит, да.
— Теперь идите обратно, — скомандовал доктор Рейлтон. («До встречи», — сказал возбужденный пациент.) Эдвин пошел обратно, пьяней прежнего. — Теперь лягте в постель, — велел доктор Рейлтон. Потом, словно на самом деле все это не следовало воспринимать слишком серьезно, словно он был таким только за деньги, а милей человека после пары пинт не найти, доктор Рейлтон по-мальчишески рассмеялся, играючи ткнул Эдвина в грудь, взъерошил ему волосы, попробовал отщипнуть кусок плеча.
— В понедельник, — посулил он, смеясь, из дверей, — начнем по-настоящему.
Эдвин оглядел товарищей по палате, которые улеглись теперь, сытые, цыкая зубами. Возбужденный пациент сказал:
— Знаешь, кто это был?
— Доктор Рейлтон, не так ли?
— Не, это ясно. Я хочу сказать, кто он раньше был. Хочешь сказать, не знаешь? Эдди Рейлтон.
— Действительно?
— Все по телику выступал, пока учился на доктора. Красиво на трубе играл, да. Понял, нет?
Негр-санитар подошел к койке Эдвина. Тягуче, ласково разгладил постельное белье, прозрачно глядя сквозь толстые интеллектуальные стекла очков.
— А теперь, — сказал он, — поешьте.
— Нет, действительно, мне, пожалуй, не хочется.
— Да, да, поешьте. Надо есть. Все должны есть. — Низкие тона негритянской проповеди. Он торжественно прошагал к двери. Возбужденный пациент крикнул из своего трубчатого гнезда:
— Эй, притащи нам вечерку. Там малец в холле как раз торговать должен.
— Некогда мне, — объявил негр-санитар, — таскать вечерние газеты. — И вышел.
— Фу-ты, ну-ты, — возмущенно фыркнул возбужденный пациент. — Понял, нет? Прямо тебе чертовски отличный пример доброго самаритянина, да? Я хочу сказать, понял, нет? Прямо, черт побери, на стену лезешь, да? Честно.
Эдвин праздно повозил по тарелке приготовленную на пару рыбу, кучку мятой картошки, уныло оглядывая палату. Все лежали в койках, кроме его непосредственного соседа. Почти все в белых тюрбанах, как паломники в Мекке, хотя это были знаки не благодати, а бритых голов. Полная палата больных хаджей. Сосед Эдвина сидел в своей койке в халате, мрачно курил, глядя на лондонский вечер в неподвижном квадрате. Лицо его носило клиническую усмешку, составную часть сложного синдрома. Во второй половине дня, вскоре после прибытия Эдвина, заходили двое визитеров из другой палаты, тоже с усмешками, чтобы сравнить усмешки. Нечто вроде клуба насмешников. На прощанье они усмехнулись усмехавшемуся соседу Эдвина и с усмешками удалились. Весьма угнетающе.
Впорхнула штатная сестра, угнетающе здоровая, и возбужденный мужчина из клеток и трубок сказал:
— Добрый вечер, сестричка.
Штатная сестра, не ответив, пролетела в конец палаты.
— Вот, — сказал возбужденный мужчина, — понял, нет? Чего я не так сейчас сделал, черт побери? Говорю ей — добрый вечер, а она — не добрый вечер, а поцелуй меня в задницу, ни за что ни про что. Прямо на стену лезешь, да?
— Нет, — запротестовал Эдвин, — я не хочу мороженого. Нет, большое спасибо, не надо мороженого. Нет, пожалуйста, нет. Никакого мороженого.
— Успокойтесь, — зазвучали тона негритянского проповедника. — Успокойтесь, дружок. Вы здесь как раз затем, чтоб успокоиться. Никто не собирается вас заставлять есть мороженое, если вы не хотите мороженого. Поэтому я просто оставлю мороженое вот тут, возле вашей кровати, просто на случай, вдруг вы передумаете и пожелаете съесть мороженое чуть позже.
— Нет, — твердил Эдвин, — нет. Я не люблю мороженое. Пожалуйста, унесите.
— А теперь успокойтесь. Может быть, пожелаете съесть чуть попозже. — И негр-санитар величественно вышел. Эдвин раздраженно спрыгнул с койки, схватил полное тающее холодное блюдце, готовый его вышвырнуть. Потом подумал: «Осторожней теперь, осторожней, полегче, им понравился бы подобный поступок».
— Если не хочешь, — сказал возбужденный мужчина в трубках, — то мне давай. Я своему мальцу отдам, когда явится вечером. Любит всякое вроде этого, да. Лишь бы холодное. Прямо живьем глотает, да.
Эдвин набросил халат — китайский, шелковый, с ползучими драконами — и прошлепал к койке мужчины. На спинке в ногах красовалось множество графиков — потребление и выведение жидкости, скорость слюнотечения, содержание белка в спинно-мозговой жидкости, а также графики температуры и пульса с взгорьями и глубокими долинами. Имя на всем этом стояло простое и гордое — Р. Дикки.
— Хочешь, покажу тебе всю работу газового завода? — предложил Р. Дикки. — Вот эта вот трубка в перевернутой вверх ногами бутылке как бы накачивает в меня лекарство, а вот эта вот трубка приделана к моей старенькой ерундовине, а вот эта вот воткнута в спину, а вот эта вот точно не знаю куда. А вот это вот типа лебедки, чтоб я мог подняться, а вот это вот типа клетки, чтоб ничего за ноги не задевало. Потрясающе, до чего могут додуматься, да? Смотри не переверни ту бутылочку на полу, потому что в нее вон та трубка одним концом воткнута, а другим мне в старую дыру. Целый день капает, да. А потом измеряют. Потрясающе, нет? Честно. — У него была красная пятидесятилетняя физиономия и волосы в большом беспорядке, словно пребывание в больнице в действительности оборачивалось для него тяжелым морским переходом на траулере.
— Что с вами случилось? — полюбопытствовал Эдвин.
— Упал с чертовой лестницы на работе. Я строитель.
Простой, драматический несчастный случай, высокое и рискованное ремесло. Эдвин подумал о собственном ремесле, о собственном несчастном случае. Преподаватель лингвистики в одном бирманском колледже в один прекрасный день, практически без предупреждения, упал на пол в аудитории, читая лекцию по лингвистике. Он говорил о народной этимологии (мансарда, первоцвет, топинамбур), а потом, практически внезапно, отключился. Очнувшись, увидел озабоченные плоские деликатно-коричневые бирманские лица, смотревшие на него сверху вниз, услыхал свои собственные слова: «Фактически это вопрос ассимиляции неизвестного с известным, понимаете ли, — нежелания признать иностранное слово действительно иностранным». Лежа на холодном полу, он вполне четко видел, как пара студентов на краю окружавшей его группы записывают эти слова в тетрадях. И изрек: «Мы оказываем уважение лишь попавшему в горизонтальное положение». Это тоже было записано.