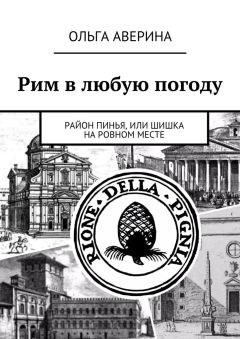— Да? — Осоргин удивленно посмотрел на Касьянина. — Если я правильно понял...
— Уточняю... — Касьянин поднял указательный палец, призывая редактора сосредоточиться. — Собака — это продолжение хозяина, вот так будет еще точнее.
— И твоя тоже?
— Естественно.
— Какие же твои черты она... — Осоргин замялся, не зная, как выразиться помягче, чтобы не задеть самолюбие Касьянина.
— Нет-нет! — усмехнулся тот. — Это настолько личное, настолько заветное, может быть, даже интимное...
— Пусть так! — редактор великодушно избавил Касьянина от подробных объяснений. — Заметка идет в завтрашний номер на первую полосу. Здесь все ясно.
Но, может быть, нам не оставлять этот случай, может быть, стоит написать о нем подробнее... Нынешние нравы, судьба женщины, судьба убийцы...
— Судьбы двух собак, — напомнил Касьянин.
— Да, и собачьи судьбы, — согласился редактор.
— Можно, — поморщился Касьянин, которого явно не обрадовала необходимость разыскивать всех этих людей и выспрашивать, выспрашивать, выспрашивать... — Знаете, почти по каждой моей заметке можно делать газетную полосу. И не потому, что я такой уж способный, просто тема позволяет, даже обязывает.
— Ладно, подумаем, — Осоргин махнул рукой, давая понять, что Касьянин может идти.
Тот ушел с легким сердцем, ушел гораздо раньше времени, потому что дело свое сделал, обеспечил газету криминальными новостями. И ничто в его душе не дрогнуло, ничто не застонало, хотя могло заскулить жалобно, почти по-собачьи.
А напрасно, ох напрасно.
Что делать, у судьбы свое понимание человеческого предназначения, и далеко не всегда наши представления о собственном будущем совпадают с замыслами высших сил.
Легко и освобожденно Касьянин прошел по залитой солнцем улице, глядя на прохожих благодушно и даже поощрительно. Руки его были в карманах брюк, голова вскинута, на губах блуждала неопределенная, почти неуловимая улыбка, но она бьша — бьша шаловливая, еле заметная усмешечка. Он был вполне доволен собой, впрочем, лучше сказать, что он был удовлетворен собой, все-таки довольства не было ни в его походке, ни в физиономии. Касьянин сделал свое дело, сделал неплохо — на весь завтрашний день обеспечил сотни тысяч людей темой для разговоров. Да, вся Москва будет обсуждать его маленькую, невзрачную заметку, потому что она затронет каждого, кто прочтет ее в трамвае, метро, автобусе...
Касьянин прошел по Тверской, долгим подземным переходом пересек Пушкинскую площадь, поднялся на поверхность и на некоторое время остановился, привыкая к солнечному свету. А открыв глаза, он обнаружил, что стоит у роскошного магазина с гранитным подъездом и стеклянными самооткрывающимися дверями. Касьянину нравились роскошные магазины, он с удовольствием рассматривал витрины, нарядные манекены, которые почему-то стали делать то безголовыми, то безрукими, то безногими — Запад продолжал щедро делиться своими открытиями в области рекламы и воздействия на человеческую психику. Обрубки человеческих тел, выставленные в витринах, невольно привлекали внимание прохожих если не товарами, то хотя бы уродством самих манекенов, созданных усилиями высоколобых мыслителей, которые измаялись в своих парижских кабинетах — что бы еще отрезать от человеческого тела, чтобы прохожий остановился и ахнул?
И находят, надо же, находят. Отрезают. То отдельно ногу выставят в чулке, то грудь в лифчике, а то и нечто более срамное в чем-то совершенно срамном.
Останавливаются прохожие, ахают.
Касьянин прошел мимо Елисеевского магазина, но не заглянул-внутрь, нет. Не хотелось ему идти по городу с пакетами, сумками, что-то тащить в руках, чем-то быть озабоченным. Он миновал магазин галантереи, который уже неизвестно сколько находил-ся на ремонте, — его превращали в какое-то сказочное сооружение, куда можно было бы ходить, как в Эрмитаж, как в Лувр и в Прадо.
А дальше располагался хлебный магазин, который, правда, недавно располовинили и из правой части сделали нечто вроде ресторана. Но не в эту скороспелую забегаловку держал путь Касьянин, он шел в хлебный магазин, помня, что в левом его крыле продают на разлив прекрасное пиво, завезенное из какой-то очень пивной страны — не то из Англии, не то из Германии. Совсем недавно пиво здесь подавали в тонких высоких бокалах, украшенных королевскими вензелями и золотыми узорами, но шустрые москвичи быстро растащили эти бокалы на сувениры, не считаясь с деньгами, которые у них брали в залог под стоимость бокалов.
Кончились бокалы, исчезли королевские вензеля, и теперь пиво здесь, как и везде, разливали в толстые ребристые кружки, утыканные стеклянными заусеницами.
И, странное дело, пиво сразу погасло, сделалось менее душистым, не таким прозрачным, и заморская горчинка, которая всегда умиляла Касьянина, тоже вроде бы исчезла, растворилась в мутновато-зеленоватых стеклянных гранях этой увесистой посудины.
Однако Касьянин, как человек трезвый и практичный, понимал, что все это лишь впечатление, что пиво здесь, как и прежде, неплохое, и при первой возможности заглядывал сюда, хотя и дороговато это обходилось. Но любил он иногда себя побаловать, тем более что ничем другим не баловал.
Пивной уголок оказался на месте, и пиво оказалось в наличии, и орешки нашлись у девушки.
— Вам темного, светлого?
— А знаете, — Касьянин задумался так, будто у него спрашивали действительно о чем-то важном, — давайте все-таки светлого.
— Похолоднее, потеплее?
— Похолодней, пожалуйста.
— И арахис?
— Фисташки.
Эти вроде бы пустые слова были самыми приятными из всего, что произнес Касьянин за последнюю неделю, из всего, что он услышал. Никто сзади не торопил его, не кричал, чтоб поменьше болтал. И девушка, видимо, была не глупа, понимала, как важно все, что она скажет, как многозначны слова, которые произносит человек с помятым лицом и запущенной прической. Или же объяснили ей умные люди, или же сама все поняла и постигла. Она смутно улыбалась то ли своим невнятным мыслям, то ли Касьянину, то ли не надоело ей еще любоваться напористой золотистой струей, которая, посверкивая, наполняла широкую емкость бокала. И Касьянин улыбался неопределенно, даже отрешенно, как улыбаются собаки в жару — закрыв глаза и свесив набок язык, с которого в дорожную пыль падают тягучие капли слюны...
Дома Марина встретила его острым, проницательным взглядом, быстрой усмешечкой, которая неуловимо пронеслась по ее лицу и оставила после себя лишь скорбно искривленные губы.
— Поддал? — спросила она, уже успев отвернуться к плите.
— Малость.
— С кем на этот раз?
— В полном одиночестве.
— В одиночестве спиваются.
— Авось, — Касьянин все еще пребывал в благодушном настроении и потому был неуязвим для таких укусов. Марина тоже поняла, что сейчас достать мужа вряд ли удастся. Она подождала, пока он разуется, снимет пиджак, умоется в ванной.
— Ухалов звонил, — сказала она с расчетливой краткостью, вынуждая Касьянина задавать уточняющие вопросы.
— И что?
— Сказал, чтоб ты его не ждал.
— А я и не собирался, — Касьянин сморщил лоб, пытаясь понять, на что намекал Ухалов. — Чего это я его должен ждать?
— Вроде вы собирались сегодня на пустырь... Собак выгуливать.
— А... Было. А что у него?
— Кто-то к нему приехал... Уважительная причина.
— Ну что ж, гости — это хорошо, — Касьянин все еще оставался неуязвимым. — Когда ко мне приезжают гости, я тоже того... Умыкаюсь.
— Ты умыкаешься не только при гостях.
— Да? — удивился Касьянин с некоторой поощ-рительностыо в голосе. — А когда же еще?
— Ты умыкаешься, не дожидаясь гостей.
— У нас тоже будут гости? — прикинулся Касьянин круглым дураком. Это был самый надежный прием — когда у него было достаточно сил и хорошее настроение, он, уходя от упреков, намеков, становился дураком, и наступательный порыв Марины сразу угасал.
— Уфф, — сказала она и, не оборачиваясь от плиты, уронила руки вдоль тела.
— Достал... — добавила обессиленно. — Ты меня сегодня достал.
— Да? — опять удивился Касьянин громко и как-то даже обрадованно. — Надо же... И не надеялся.
— Катись!
И потом долго, очень долго Марина корила себя за это неосторожное слово, которое привело к таким тяжким последствиям. Хотя умом, конечно, понимала, не дура же она была, в конце концов, прекрасно понимала, что вины ее нет, что предвидеть все происшедшее ни она, ни Илья, ни Степан, который катался по ковру с Яшкой в обнимку, не могли ничего предвидеть. Хотя там, в высших сферах, в прибежище божественного разума, все уже было рассчитано и подготовлено. Причем настолько тщательно, что к исполнению задуманного можно было приступать немедленно, прямо в эту самую секунду. И Касьянин, словно был посвящен в тайный и зловещий план, услышав Маринино «катись», тут же охотно поднялся, да так браво, так исполнительно, что, казалось, даже каблуками от усердия прищелкнул.