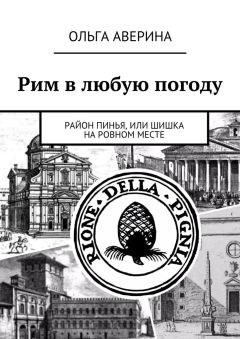— Как будет угодно! — произнес он. — С большим нашим удовольствием! Было бы сказано, было бы велено!
Легкий хмель, который бывает только от хорошего пива и от умеренного его количества, все еще бродил по организму Касьянина призрачным ароматным облачком.
Марина обернулась на куражливые слова Касьянина, долгим протяжным взглядом посмотрела на мужа и кивнула, как бы еще раз убеждаясь в собственном прозрении.
— Поддал, — сказала она с обреченностью в голосе. — Видит бог, сопьешься.
— Бог видит, да не скоро скажет! — брякнул Касьянин с непривычным озорством. Что-то заставляло его напоследок выбрасывать из себя слова легкие и необязательные, освобождая место для слов других — суровых и безрадостных.
Уже наступили сумерки, солнце опустилось за пещеристые горы недостроенных небоскребов, в некоторых из них уже замелькали красноватые сполохи костров.
Наркоманы и алкоголики, беженцы и изнывающие от неутоленных чувств старшеклассники стекались к этим домам каждый вечер, как стекались когда-то к храмам богобоязненные и добропорядочные прихожане, приводя с собой малых детей, нарядых Жен и взволнованных предстоящим богослуже-Ием Раскрасневшихся старух. И храмы нынче другие, другим богам молятся, и не при ясном свете дня, а при скудном и вседозвольном свете ночи.
Пока Касьянин собрался, пока постоял минутку-вторую у телевизора, проникаясь проблемами президента, который никак не мог решить — оставаться ли ему на третий срок или все-таки согласиться с приговором природы, которая терпеливо и неустанно погружала его в сумрак слабоумия, наделяя детской обидчивостью, старческим брюзжанием и какой-то больной величавостью, вынуждающей время от времени замирать в позах нелепых и шаловливых.
— Ну ты даешь, старик, — проворчал Касьянин беззлобно и направился в прихожую, где уже давно повизгивал у дверей Яшка — предстоящую прогулку он чуял задолго до того, как об этом принималось решение.
— Возьми на всякий случай, — сказала Марина, протягивая мужу недавний подарок Ухалова. — Мне будет спокойнее, — сказала она, смутившись собственной заботой.
— Надо же... — удивился Касьянин, беря револьвер.
— Если не от людей, то хоть от собак отгавкаешься.
— Тоже верно, — Касьянин сунул револьвер под ремень. Поскольку был он телом сух и даже строен, то револьвер расположился за поясом совершенно невидимо. Застегнув пиджак на одну пуговицу, Касьянин полностью скрыл следы оружия на своем теле.
К тому времени, когда Касьянин, с трудом сдерживая рвущегося с поводка Яшку, пересек освещенную трассу, сумерки совсем сгустились и в тени пустых домов наступила темнота. Она была еще прозрачной, еще можно было различить и людей, и носящихся по пустырю собак, и даже беззвучные тени бомжей и наркоманов, стекавшиеся к серым громадам, тоже еще были вполне различимы. Они ни с кем не заговаривали, на них тоже не обращали внимания как на пришельцев из другой, не то прошлой, не то будущей цивилизации, которая существовала совсем рядом, но по каким-то своим неведомым законам. Пришельцы людей не трогали, со своей жизнью к ним не навязывались и вообще стремились быть как можно незаметнее. Скользнет тень поздним вечером и исчезнет, будто привидение в неверном свете сумерек.
Не встретив знакомых, Касьянин отошел с Яшкой на край пустыря, в темноте нащупал ногой брошенную плиту перекрытия и сел на нее, ощутив еще дневное тепло, исходящее от бетона. Вняв наконец Яшкиным стонам, он отстегнул поводок и позволил собаке тут же умчаться в темноту. Только по шороху, проносящемуся где-то рядом, Касьянин мог следить за передвижениями Яшки. С некоторых пор тот стал осторожнее и уже не убегал слишком далеко, все время был где-то рядом.
Стоило позвать, и он прибегал тут же, но в руки не давался, опасаясь, что его снова посадят на поводок и поволокут, поволокут беззащитного на двенадцатый этаж в опостылевшую квартиру.
Было уже поздно, и жизнь на пустыре постепенно замирала. Собачников было немного, да и те уже уходили. Изредка в темноте раздавались истеричные голоса женщин — они отдавали команды с такой настойчивой озлобленностью, что собаки сразу чувствовали их беспомощность и не торопились бежать на зов, а уж исполнять команды им, наверное, вообще казалось смешным.
Но неожиданно все переменилось, и события понеслись с жутковатой необратимостью. Сначала отчаянно завизжал Яшка. На фоне освещенной улицы Касьянин увидел, как тот несется к нему, преследуемый большой собакой. Та гналась за Яшкой молча, и уже одно это выдавало ее серьезные намерения.
Касьянин вскочил, бросился навстречу, но не успел — собака уже настигла Яшку и вцепилась в затылок. Вырвав из-за пояса револьвер, вовремя вспомнив о кнопочке предохранителя и сдвинув ее вверх, Касьянин два раза нажал курок. Он помнил наставления Ухалова о том, что первые выстрелы холостые и никому вреда принести не могут.
Похоже, что грохот больше оглушил самого Касьянина, нежели произвел какое-то впечатление на собаку. Наверняка это был хорошо натасканный зверь, приученный к выстрелам. Услышав грохот, увидев злое, нетерпеливое пламя, вырвавшееся из ствола, собака оставила несчастного Яшку и молча, не издав ни звука, рванулась к Касьянину. Он услышал ее хриплое дыхание, кажется, услышал даже шелест травы под лапами, и в тот момент, когда она, ото рвавшись от земли, была уже в прыжке, уже на полпути к нему, к его горлу, Касьянин успел вскинуть руку и нажать курок. Он не мог сказать, он и потом не мог сказать, сколько раз выстрелил, однако, отшатнувшись в сторону, услышал собачий визг. Это не был жалобный визг, это была злобная ругань громадного пса, которому сделали больно.
В свете уличных фонарей Касьянин видел катающийся по земле черный рычащий комок.
— Ах ты, сучий потрох, — услышал он сзади, но оглянуться не успел — кто-то сильный, явно сильнее, крупнее его, схватил сзади рукой за горло. Не ладонью схватил, не пальцами, а завел локоть и предплечьем сдавил горло так, что нельзя было продохнуть. Касьянин почувствовал, что задыхается, что еще совсем немного времени, секунда-вторая, — и он потеряет сознание. Уже обвиснув в сильных руках напавшего, он завел руку с револьвером назад, куда-то себе за голову, и нажал курок.
Раздался грохот выстрела, и хватка на его горле ослабла.
Касьянин упал, и это падение, кажется, привело его в чувство. Он осознал, что лежит навзничь на вытоптанной, загаженной траве, почувствовал запах собачьего дерьма, сухой травы, увидел в стороне, над дорогой, расплывающееся светлое пятно.
С трудом поднявшись на четвереньки, Касьянин потряс головой, пытаясь прийти в себя и осознать происшедшее. Встав на ноги и еще пошатываясь, он увидел, что Яшка рядом, тихонько сквозь зубы поскуливает и жмется к его ногам.
— Спокойно, Яшка, спокойно, — пробормотал Касьянин. — Сейчас разберемся...
Во всем разберемся.
Неожиданно Касьянин обнаружил, что все еще сжимает в руке револьвер.
Поразмыслив, он сунул его за пояс.
Оглянулся, напряженно всматриваясь в темноту, и увидел лежащего на земле человека. Собаки рядом не было — то ли убежала, не выдержав его газовой атаки, то ли пряталась где-то рядом.
Касьянин хотел было подойти к лежащему, но что-то остановило его, будто кто-то сказал твердо и внятно — «не подходи». Попятившись, он сделал несколько шагов назад, развернулся и зашагал в сторону от освещенной дороги. Яшка трусил рядом, хотя поводка на нем не было.
Впереди медленно поднималась стена леса!
Не дойдя до опушки, Касьянин остановился, осмотрелся.
За ним никто не шел, никто его не преследовал.
Ни человек, ни собака.
Видимо, оба они медленно приходили в себя. Все-таки Касьянин направил струю газа с близкого расстояния, а Ухалов предупреждал его, что газ этот вовсе не слезоточивый, это надежный нервно-паралитический газ.
— Ну что ж, — рассудительно проговорил Касьянин вслух, — значит, вам, ребята, этим вечером немного не повезло.
Слова сложились красивые, даже с какой-то значительностью, но Касьянин ясно понимал, как далеки они от истинного его состояния. Он крепко влип, и теперь над ним распростерлась опасность.
Пройдя вдоль опушки, Касьянин свернул к шоссе, к домам с освещенными окнами. Было уже поздно, люди проходили где-то в отдалении, он не знал их, вряд ли и они узнавали его.
Как человек, написавший сотни криминальных историй с преступлениями, расследованиями, следами и доказательствами, он понимал, что сейчас важнее всего прийти домой, подняться с собакой на двенадцатый этаж и запереть за собой дверь.
И все.
И ничего не произошло.
И отвалите, ребята.
Не знаю я никаких собак, никаких происшествий, отвалите.
Конечно, вся эта защитная история может рухнуть от одного только слова, но как бы события ни развивались дальше, это то, что он мог сделать сегодня, что обязан был сделать.