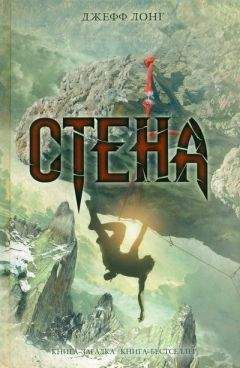Впрочем, даже не чрезмерно сильный страх перед началом восхождения беспокоил его. Нечто совсем иное. Он воспринимал голос — нет, даже не голос, а ощущение. Оно шло или сверху, или изнутри камня. Он чувствовал, как его убаюкивало. Обманывало. Даже усыпляло. И это его тревожило.
Под руками почувствовалась выпуклость камня, и его тревоги сразу притихли. После всех прошедших лет она оставалась там же, где и была, на высоте плеча, молчаливая малозаметная выпуклость, одна из тысяч рябинок, которыми было задекорировано основание скалы. Она отвечала на его безмолвный призыв.
Проведя кончиками пальцев по камню, он нащупал невидимую морщинку. Большой палец левой ноги встал на окатанный выступ точно так же, как много лет назад. Эль-Кэп сохранил все это для него в совершенно неизменном виде. Высоко над головой рассвет прикоснулся к стене, залив ее светом, сразу пропитав камень иллюзиями, ложными надеждами и обманом славы.
Хью подтянулся. Палец ноги хорошо держался на опоре. Он отделился от земли. Теперь он находился на нижней ступеньке лестницы, не существовавшей для непосвященного. Восхождение началось.
Льюис, державшийся внизу и в стороне так, чтобы Хью не мог упасть на него, принялся насвистывать не то Баха, не то Троицкую литургию, не то еще что-то в этом роде. Кое-кого из альпинистов эта привычка раздражала до крайности, но Хью вполне притерпелся к ней. У Льюиса была заметная щель между передними зубами, и он утверждал, что благодаря этому может свистеть в пятой гармонике. «Нет, ты только послушай», — говорил он и принимался высвистывать ноты.
Хью следовало бы наклониться поближе и сделать вид, будто ему действительно интересно, как такое может получаться. «Нет, это всего лишь зубы и воздух» — так должна была бы прозвучать его ритуальная реплика.
Хью продолжал удаляться от земли.
Первое место для стоянки на Анасази находилось на высоте примерно ста тридцати футов от земли. Там имелся маленький уступ, который можно было разглядеть, лишь поднявшись туда. За минувшие годы подъем превратился во что-то наподобие экзамена, а уступ получил название Разбитого стекла и в честь его первооткрывателя, и в знак того, что на пути к нему и на нем пострадало немало народу.
Помимо трудности достижения, для чего требовались, так сказать, неортодоксальные движения, уступ Разбитое Стекло отличался тем, что мог предложить альпинистам в лучшем случае психологическую защиту. Там на полированной плите имелось лишь три нитевидных трещины, отстоявших далеко одна от другой и то раскрывавшихся пошире, то плотно смыкавшихся, словно края раны. Когда Хью впервые поднялся туда, то сумел закрепить отдельные элементы страховки по разным трещинам: куда вбить тонкий крюк, куда засунуть карабин, куда крюк с блоком. Не одна из этих страховок не удержала бы, доведись упасть по-настоящему. Множество претендентов узнали это на своем горьком опыте, ломая руки, ноги, позвоночники и разбивая головы при попытках повторить загадочные действия человека по имени Гласс.
Очевидно, жертв постепенно набралось слишком много. Поднявшись немного повыше, он стал то и дело натыкаться на большие болты — не один-другой, а множество. Когда-то такие ухищрения называли цыплячьими лесенками — они выдавали потуги неудачливых претендентов на трон.
Пока длился золотой век, период погони за открытиями, начавшийся с первого подъема на Эль-Кэп в 1958 году и закончившийся в начале семидесятых, вворачивание даже одного-единственного болта сочли бы чем-то вроде беззаконного грубого насилия. Многие альпинисты сходили с маршрутов, но не уродовали их железной арматурой, предпочитая оставлять скалу в первозданном виде для тех, кто наделен большими талантами. Мирились даже с тем, что тот или иной маршрут надолго, если не навсегда, останется непройденным. Болты, вворачиваемые в камень, открывали новые возможности, но могли полностью изуродовать скалу и лишить ее привлекательности. Тогда это значило для них очень много. Они относились к скалам с почтительностью хоббитов.[17]
На протяжении всей своей альпинистской карьеры Хью использовал лишь пять болтов, причем ни один из них на Анасази. Теперь же ему попалось девять, нет, десять, и это лишь во время первого подъема. Он должен был бы испытывать отвращение, но на деле радовался тому, что они есть и он может крепить к ним страховочную веревку. Каждый болт мог выдержать слона. Хью испытывал удовольствие от того, что смог удалить из уравнения такие неизвестные, как смерть или увечье.
Но каждый раз, прицепляя веревку к кольцу, Хью слышал, как внизу свист Льюиса сбивается на фальшивые нотки. Льюис всегда был большим пуристом, чем даже Хью. Для него болты были не просто раздражающим чужеродным предметом, а олицетворением зла. Они воплощали собой машину, асфальтированные дороги, сменившие тропы первопроходцев, трусость городских слабаков. Они калечили и ломали карму.
На третьем болте и третьей фальшивой каденции Хью наклонился вниз.
— Возникли проблемы?
Льюис перестал свистеть.
— Что-то не так, Гарп? — спросил он вместо ответа.
Слово «Гарп» было еще одним анахронизмом. Когда-то давным-давно Хью носил такое прозвище — сокращение от Гарпуна. Такое наименование значило, что этим парнем можно стрелять в Великого Белого кита — что у него стальные нервы и яйца из титана.
Льюис снова засвистел, как один из тех гномов, что составляли компанию Белоснежке.
Хью прицепил веревку к очередному болту. Льюис снова скептически присвистнул. На сей раз Хью не стал обращать на это внимания. Если уж Льюису так хотелось соблюсти чистоту традиций при их первом подъеме, то и шел бы сам на свободном конце веревки. Только вот в таком случае они до сих пор топтались бы по земле.
В течение следующих двух часов Хью продолжал работу на скале. Он двигался навстречу солнечному свету, а свет спускался к нему. Камень понемногу утрачивал ночной холод. Сухожилия Хью разогрелись. Бедра и плечи обрели гибкость. А предплечья от постоянного напряжения сделались твердыми, как кожура спелой тыквы.
Он никогда не потел, когда лез по скалам, потому что двигался очень медленно и продуманно, как рептилия. Он то и дело отдыхал, опираясь на выступы покрупнее, или двухдюймовые кубики белого кварца, или просто какие-то щербины. Стена дюйм за дюймом возрождалась в его памяти.
Вот ему попалась широкая впадина с двумя выступами — настолько широкая, что он с трудом мог перекинуть через нее ногу, настолько широкая, что сейчас он не на шутку тревожился, что годы не позволят ему вновь преодолеть эту преграду. Но он справился. В другом месте он по-кошачьи пробрался по узкому короткому карнизу, без остановки атаковал бугорок, и округлая выпуклость хоть и не без труда, но удержала его ладонь.
Его нехорошие предчувствия — не только вчерашние знамения смерти и безумия, но и месяцы дурных снов — все эти тревожные сигналы, ярко пылавшие в мозгу, понемногу ослабляли интенсивность и цвет. Если не считать болтов, все зацепы находились на тех самых местах, где им и полагалось находиться. Все в мире казалось верным и хорошим. Он был на месте, принадлежавшем ему по полному праву. Он был в состоянии совершить это восхождение.
Появился небольшой карниз, вполне подходящий для страховки. Хью крепко поставил на него одну ногу и окликнул Льюиса.
— Ну ты и даешь! — донеслось снизу.
Льюис, казавшийся сверху совсем крошечным, суетился внизу. Дожидаясь напарника, Хью, вопреки своему обычаю, завязывал узлы, используя для этого кусок вспомогательной веревки.
Узел, получивший почему-то название итальянского, был изобретен только в 1974 году, через шесть лет после того, как Хью и Льюис покорили Анасази. Но Хью быстро взял его на вооружение и использовал его в альпийских походах, и в экспедициях по хребту Ахаггар на юге Алжира, и в восхождениях на Макалу в Непале, Эверест в Тибете и Чогори, неизвестно кому принадлежащую.
Далеко внизу Льюис, негромко посвистывая, привязывал рюкзаки с дополнительным снаряжением и веревками, готовясь начать подъем на жумарах. Хью продолжал крутить веревку, вспоминая различные узлы.
Большинство альпинистов довольствовались тем, что запоминали лишь самые основные приемы работы с веревкой. В отличие от них, Хью был истинным ученым, его всегда занимала история веревок и узлов, он любил разговаривать с моряками, ткачами и рыбаками, даже, бывало, рассматривал через лупу музейные экспонаты. Человечество начало вязать узлы еще в каменном веке. Сыромятные ремешки, принадлежавшие кроманьонцам, были завязаны плоскими узлами.
Существовали специальные узлы для того, чтобы связывать пленников и вешать их, чтобы закреплять поклажу на спинах и перевязывать раны. Инки даже передавали сообщения при помощи узлов. Разбойничий узел был выдуман для того, чтобы поскорее собрать угоняемых лошадей и удрать, кровавым узлом вязались линьки, чтобы сделать больнее телесные наказания, которым подвергали солдат и моряков, а шнурами-поясами бичевали себя монахи-флагелланты. В Средние века восьмерка, которой альпинисты сматывают свои веревки, пользовалась особым почтением за свою симметричность.