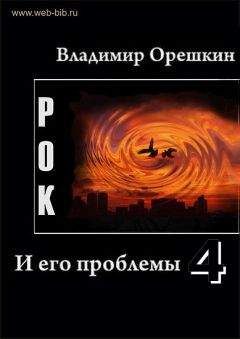— Да, — сказала Гвидонов.
— Я тебе мешаю, — горестно сказала Мэри.
— Нет, — ответил Гвидонов.
Заставив ее до конца дня в одиночестве размышлять над этим парадоксом…
Сторож был китаец, жил невдалеке, и на досуге занимался от нечего делать гончарным ремеслом. Посредине его фанзы стоял гончарный круг, заготовка для горшка, и бадья с водой. По стенам, на полках, были расставлены чашки, кружки, разных размеров тарелки, и, конечно, в изобилии, горшки.
По-русски китаец говорил хорошо, но с сильным акцентом по-фене. Так что не нужно было гадать, где он учил язык, и каким образом выдвинулся на должность сторожа.
В отличие от экскурсовода, этот китаец не улыбался, а смотрел на Гвидонова настороженно, должно быть, отвык от общения с высокими паханами.
— Зашли вот, после экскурсии в монастырь, купить пару горшков для молока. Как — сувенир, — сказал Гвидонов.
Сторож кивнул, распахнул дверцы шкафа, возле которого стоял, — там были полки, на которых стояла та же посуда, но расписанная красками.
— Выбирайте, — сказал он.
Мэри бы ахнула от восхищения, и забрала бы все. Потому что нарисованы на тарелках, чашках и горшках были не мумии и скелеты, а живые, и очень даже живые, животные. Целый зоопарк. Гвидонов не желая, но засмотрелся: олени, слоны, собаки, верблюды, кошки, орлы и крокодилы… Каждый там занимался каким-то то своим делом: питался, охотился, играл, отдыхал, куда-то летел.
Каждый из этих ослов и черепах обладал там чувством собственного звериного достоинства. Поскольку никогда еще не встречался с человеком.
Что-то было. Необычное. Увидеть такое среди белоснежного горного Тибета, — где бедность, зарождающийся туризм, и архитектурные развалины.
— Забавно, — сказал Гвидонов сторожу.
— Это не я, — ответил он, — это мой сын рисует…
Рисует сын.
Когда тебе — сорок шесть, и вряд ли когда-нибудь случится сиртаки у теплых берегов Средиземного моря. И греческая вдовушка, с вплетенной в иссиня черные волосы алой розой, вряд ли одарит тебя обворожительной улыбкой.
А если и одарит. И будет сиртаки, и приземистая двухэтажная вилла за высоким непроницаемым забором. Пусть все это будет, — произойдет как-нибудь все-таки, исполнятся мечты…
Единственный рисунок чужого сына переплюнет все это по своей невероятности.
Засыпая каждый вечер над религиозными текстами, — Гвидонов уже знал: будет то, что будет… И никак иначе. Если есть что-то, там, за холодным черным мгновеньем, — то он узнает это. Обязательно. Мимо него не пройдет.
А если ничего нет, — то ничего не будет. Какая тогда разница…
Вот и все. Все мировые философии… Все навороты мысли. Все озарения. Когда ни от него, ни от кого другого, — ничего не зависит.
Есть, так есть. А — нет, так и нет…
Но сын, — это другое.
Сын, — это ты сам. Это твое — бессмертие.
Твой сын, — разящий удар в морду этой безжалостной жизни.
Когда ты сам, — уже почти труп. Когда уже на твоих губах кровавая пена, и сзади, — унижения, разочарования, катастрофы, предательства, обманы, зло, болезни, плевки, еще большие унижения… И ничего нет — впереди.
Ничего. Гробовая доска…
Но сын, — который берет как-то тарелку и рисует на ней рысь, с острыми ушами, кисточками на них, и игривыми сытыми глазами.
Рисует рысь, почти, как настоящую, когда ты за всю жизнь умудрился изобразить лишь человечка, с точками вместо глаз, палочкой, вместо носа, и кривым овалом, вместо рта. На этом твои способности к рисованию закончились.
Он — смог. Откуда? Почему?
Твое продолжение, — плоть от плоти твоей, кровь от твоей крови. Когда в тебе, — ни сном, ни духом…
А он смог.
Гвидонов отвернулся от шкафа и сказал:
— Я по делу.
— Покупать ничего не будете?
— Позже…
Про этих махатм в Омбе все забыли. Почти никто не помнил, что они жили здесь когда-то. Сторожу удалось несколько лет назад поговорить о них с двумя стариками, ни одного из которого нет уже в живых. Они что-то вспоминали, но утверждали, что монастырь уже к тому времени был пуст. Ко времени их детства, потому что они играли у его входа в футбол, — там была ровная площадка.
— В футбол? — переспросил Гвидонов.
— Да, — согласился сторож, — говорили, в футбол. Мячиком. Набивали бараний бурдюк разным тряпьем, — и гоняли его по полю. Может, какая-нибудь местная разновидность?.. Но тех людей они видели. Они не любили попадаться на глаза. Но особенно и не прятались… Ходили в каких-то капюшонах.
— Как они выглядели?
— Обыкновенно… Без особых примет… Но — были.
— Но вы-то как их узнали? Прошлым летом.
— Велено было сообщать обо всех подозрительных… А уж подозрительней их придумать было нельзя. Местных я всех знаю. Оставались туристы, — больше здесь чужих не бывает.
Китаец, пока говорил, готовил для гостя чай. Снял с плиты старый медный чайник, насыпал в глиняный заварочный, расписанный летящими бабочками, — крупную щепотку заварки, и плеснул туда кипяток. Заварки было много, кипятка, — мало. Выйдет что-то наподобие чифиря.
— Их, когда увидишь, и если знаешь, что о ком-то нужно докладывать, — легко узнать. Я когда прошлой весной столкнулся с ними на улице, сразу понял, это они.
— Сколько их было?
— Четверо. Всегда четверо… Они всегда ходили вчетвером.
— Сейчас, вы расскажете мне, как их узнали. Ничего не пропускайте.
— Шел из магазина. Уже подходил к дому. Был на самом повороте. Они из-за него и вышли. Я подумал сначала, туристы идут в магазин. Туристы обязательно заходят в наш магазин. Хотя там ничего интересного для них нет. В наш магазин, — и ко мне, — сказал китаец с гордостью. — Я придумал сначала свою работу, чтобы про меня узнали, что у меня есть для них сувениры. И продаю их только здесь. Чтобы всех увидеть… Теперь привык, без этого не могу. И туристов с каждым годом становится больше.
Эти шли к монастырю. Четверо. В каких-то летних плащах, воротники подняты, и у каждого на голове кепочка с длинным козырьком, — так что солнце не падало на их лица.
Вот, я иду и думаю, — это туристы направились в магазин или к монастырю…
Китаец задумался, вспоминая, и в это время стал разливать чай.
— Вам добавлять воды? — спросил он Гвидонова.
Гвидонов кивнул.
Так что получилось, каждому по серьгам. Китайцу чифирь, Гвидонову — крепкий, довольно неплохой чай.
— Они посмотрели на меня, — сказал китаец, и взглянул на Гвидонова, как-то вопросительно. — Не все сразу, только один. Шли навстречу, что-то говорили друг другу, потом один из них посмотрел на меня… Потому что ни тогда, ни потом, остальные ни разу не взглянули. Только этот один. И только раз… Он посмотрел на меня, — знаете, у меня все внутри вдруг подобралось. Словно начальник выбирает из шеренги, кого послать нужник чистить… Последнее дело, потом не отмоешься. Два дня вонять будешь. Все шарахаться станут. Хотя и понимают, что под хозяина попал… Но отношение совсем другое. Больше недели вспоминают… Чистить нужник, — последнее дело… Так, наверное. Я не выдержал, стал смотреть в сторону, а не на них. Потому что тот посмотрел мне в глаза Не на меня, а сразу в глаза… Уже потом не думал ни о чем, не сомневался. Побежал домой, открыл ящик, — достал телефон, вставил батарейки, достал бинокль, — и перед тем, как позвонить, решил еще раз на них взглянуть. Для гарантии… Это прошло минут двадцать, не больше. Они были у входа в монастырь. И я — позвонил.
Китаец вопросительно взглянул на Гвидонова.
Гвидонову понравилось, что он не врал.
— Как они выглядели, когда вы встретились? Что особенного в их лицах? Цвет волос, раса, рост, — все, что вспомните.
— Я фоторобот рисовал, — сказал китаец. — Все вспомнил, что мог, вряд ли сейчас, что смогу добавить…
— Рост, — спросил Гвидонов, улыбнувшись китайцу, будто они играли в детскую игру, и китаец про что-то там совсем забыл.
— Да, — сказал он, — они были одинакового роста. Это тоже бросилось в глаза. Где-то метр семьдесят пять. Самый обычный рост… Но они были одинакового роста, — вот в чем дело. Обычно, когда идет компания, одни чуть повыше, другие — чуть пониже. Одни чуть толще, другие — чуть тоньше… Эти же были одинакового роста и одинакового размера. Вот что интересно. Я только сейчас об этом подумал. А ведь тогда еще, когда не подошел к ним близко, обратил внимание, что они, все четверо, были совершенно одинакового роста.
— Лица тоже были одинаковые, — сказал Гвидонов.
— Нет, — сказал китаец, — лица у них не были одинаковыми, у каждого было разное лицо… У каждого — свое.
— Глаза, — сказал Гвидонов. — Когда смотришь на человека, сначала смотришь в его глаза, даже, если стоишь далеко от него, и глаз не разобрать. Вы, когда посмотрели на них, сначала взглянули в глаза первому. И тот, заметил…