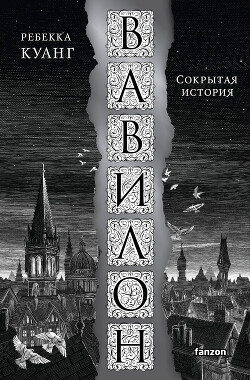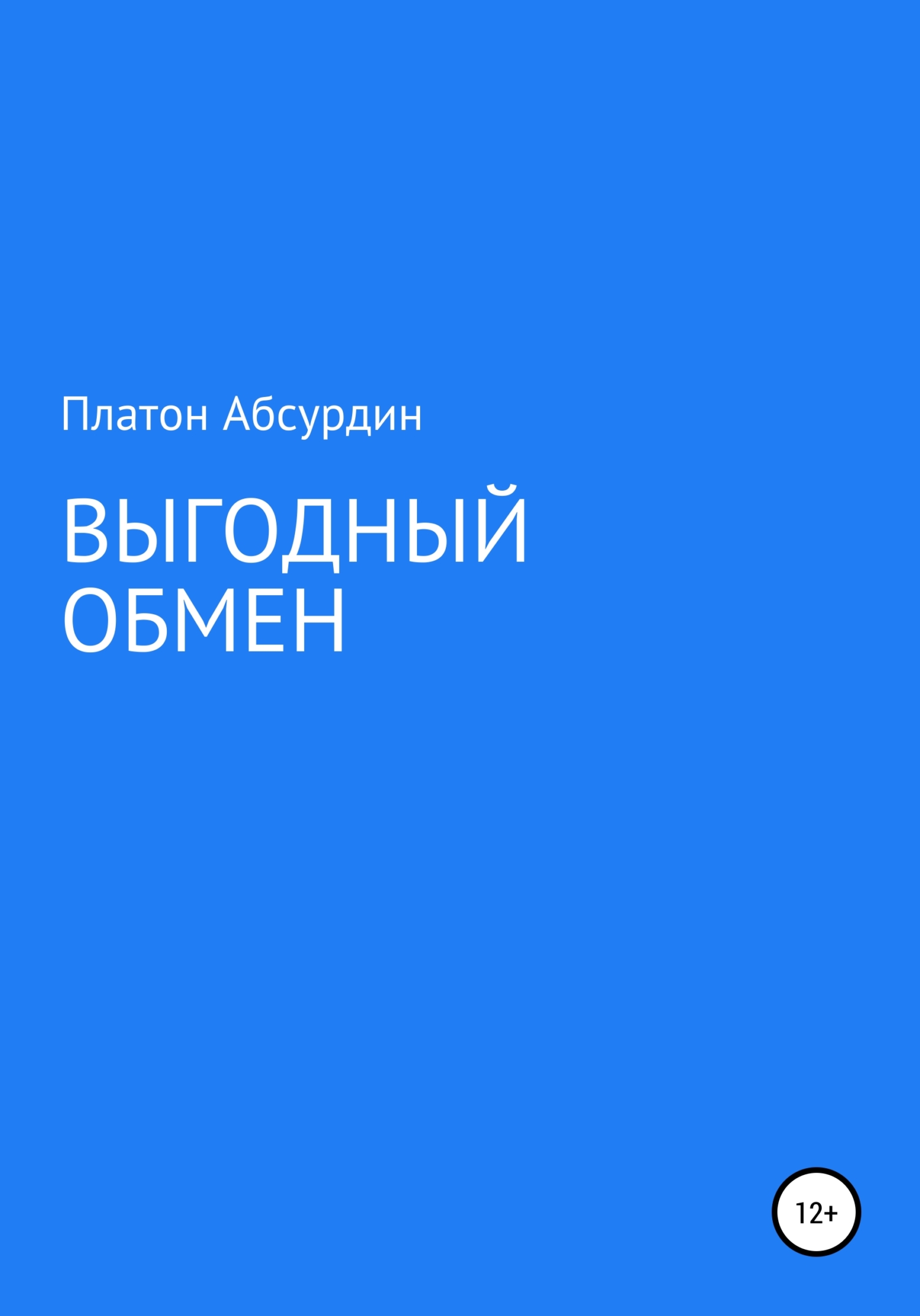«„Держи их в горсти и в узде, — советовал ему при назначении один из штабистов. — Киркой махать они умеют, но обеспечь, чтобы не шлялись где попало“. И офицер приказал, чтобы рабсила без особого распоряжения ни в коем случае не покидала своей ограды из колючей проволоки. Вот так и получилось, что свои первые недели во Франции А Лун провел, лавируя меж сигнальных колоколов и растяжек с единственным вопросом: почему, если он здесь для помощи военным, с ним обращаются как с пленником?»
Все идет как по маслу. О контроле над аудиторией всегда говорит атмосфера, которую нужно создать. Я это сумела. В зале царит некая углубленная тишина с глухим напряжением, словно в груди у каждого абордажный крюк с туго натянутой веревкой. Мой голос стал ровнее; он чист, привлекателен и при этом трепетный настолько, что придает мне трогательной уязвимости; при этом я спокойна и собранна. Я знаю, что выигрышно смотрюсь в серых легинсах, коричневых ботинках и бордовой водолазке, которые специально выбрала для этого вечера. Я Серьезный Молодой Автор. Литературная Звезда.
Чтение заканчивается под восторженные аплодисменты. Не менее успешно проходят и вопросы-ответы. Вопросы — либо пустячки, дающие мне шанс попозировать («Как вам удавалось совмещать исследования по такой своеобразной исторической теме с повседневной работой?», «Как вы сумели сделать исторический фон таким богатым и насыщенным?»), либо откровенная лесть («Как вам удается сохранять равновесие, будучи такой успешной в столь юном возрасте?», «Чувствовали ли вы какое-то давление после получения такого крупного контракта на книгу?»).
Мои ответы забавны, внятны, скромны и вдумчивы:
«Уж не знаю, что я там уравновешиваю. Я даже не помню, какой сегодня день. А еще сегодня, чуть пораньше, я забыла, как меня звать».
В ответ смех.
«Понятно, все, что я писала в колледже, было полной чушью. Студенты колледжа понятия не имеют, о чем писать, кроме романтики студенчества».
Снова смех.
«Что до моего подхода к исторической беллетристике, то я, пожалуй, черпаю вдохновение в приемах критической фабуляции Саидии Хартман, что означает писать „с вкраплениями“, внося эмпатию и реализм в архивные записи истории, воспринимаемой нами как нечто абстрактное».
В ответ задумчивые, впечатленные кивки.
Они любят меня. Не могут отвести от меня глаз. Ради меня они здесь и ловят каждое мое слово. Все их внимание поглощено мной.
До меня впервые по-настоящему доходит, что все сладилось-получилось, сработало. Я стала одной из избранных — тех, кого власти предержащие считают значимой. Я млею от своего симбиоза с толпой; смеюсь, когда смеется она, жонглирую формулировками их вопросов. Я забыла про свои шаблонные, наспех сделанные заготовки с ответами; рассуждаю легко и проникновенно, а каждое слово, что слетает с моих губ, умно и чарующе увлекательно. Все мои посылы бьют в точку.
И тут я вижу ее.
Прямо там, в переднем ряду; из плоти и крови, тень своя собственная, настолько плотная и настоящая, что о галлюцинациях не может быть и речи. На изящные плечи наброшена изумрудно-зеленая шаль — один из ее фирменных образов, — наброшена так, что ее стройная фигура выглядит одновременно утонченно, хрупко и элегантно. Она сидит, грациозно откинувшись на спинку пластикового складного стула; блестящие черные локоны откинуты назад, за плечи.
Афина.
Кровь стучит в ушах молотками. Я несколько раз смаргиваю, отчаянно надеясь, что мне это все же мерещится, но всякий раз, когда открываю глаза, она по-прежнему там, выжидательно улыбается мне своими яркими ягодно-красными губами.
«Стиль на весь день», — бездумно мелькает в уме фраза, знакомая по читаной-перечитаной идиотской статье в Vogue, где Афина давала советы по макияжу. «Тени Бесо». Еще до моей раскрутки.
«Успокойся». Возможно, есть какое-то другое объяснение. Может, это ее сестра; кто-нибудь, выглядящий точь-в-точь как она, — кузина, близнец? Но у Афины нет ни кузины, ни вообще родни в ее поколении. Ее мать выразилась предельно ясно: «Остались только я и моя дочь».
Чары рассеиваются. У меня кружится голова, во рту пересохло, и я как могу, сбивчиво отвечаю на остальные вопросы. Власть, которая у меня была над аудиторией, пропала бесследно. Кто-то спрашивает, повлияла ли на «Последний фронт» какая-нибудь из моих курсовых работ в Йеле, а я в упор не могу вспомнить ни одного курса, который когда-либо посещала.
Я продолжаю поглядывать на Афину в надежде, что она исчезла или была всего-навсего игрой воображения, но всякий раз, когда я это делаю, она по-прежнему здесь и наблюдает с холодной непроницаемостью, оценивая каждое слово, слетающее с моих губ.
Вот время заканчивается. Я пережидаю аплодисменты, отчаянно пытаясь не упасть в обморок. Менеджер магазина подводит меня к столику в начале очереди за автографами, и я с натянутой, как маска, улыбкой приветствую читателя за читательницей. Существует целое искусство улыбки, установления зрительного контакта, обмена фразами при подписании книги, не допуская ошибок в написании своего имени или имени человека, которому вы ее адресуете. У меня уже есть некоторая практика автограф-сессий на мероприятиях, и в нормальный день я могу обойтись всего одной или двумя неловкими паузами. Сейчас у меня эти «ляпы» через одного. Я дважды спрашиваю одного и того же человека: «Ну, как вам вечер?» и так неудачно прописываю имя одного покупателя, что магазин бесплатно меняет ему экземпляр.
Я в ужасе от того, что передо мной с книгой в руке предстанет Афина, а сама все вытягиваю шею в поисках ее зеленой шали, но она, кажется, исчезла.
Неужели никто ее больше не заметил? Неужели я одна?
Судя по лицам персонала, что-то идет не так. Не посовещавшись со мной, они торопят остальных почитателей, напоминая всем, чтобы вопросы звучали коротко: час уже поздний. Когда все заканчивается, меня не приглашают ни на чай, ни на бокал вина, а просто пожимают руку и вежливо благодарят за приход. Менеджер магазина предлагает вызвать мне такси, и я охотно соглашаюсь.
Дома я скидываю туфли и сворачиваюсь калачиком на постели.
Сердце колотится бешено, дыхание мелкое и прерывистое. В голове гудит так, что я едва слышу собственные мысли, ощущая покалывание в основании черепа. Меня словно погружает в собственное тело какая-то вязкая волна, а затем, наоборот, поднимает. Чувствуется приближение приступа паники — нет, не приближение, а скорее пик; я его сдерживала, превозмогая на протяжении последнего часа, и только сейчас нахожусь в обстановке достаточно уединенной, чтобы ощутить все обилие симптомов. Грудь стискивает. Зрение меркнет, сужаясь в булавочный укол.
Я пытаюсь пройтись по контрольному списку, которому меня обучила доктор Гэйли. Что я вижу? Бежевое покрывало, чуть запачканное с одной стороны моим тональным кремом и крапинками туши. Чем пахнет? Корейской едой, заказанной сегодня на обед, — она все еще стоит на столе: из-за нервозности перед мероприятием я даже ничего не смогла съесть; ароматом моющего средства от простыней у меня под носом. Что я слышу? Уличное движение, стук собственного сердца в барабанных перепонках. Какой ощущаю вкус? Подвыдохшееся шампанское (я только сейчас заметила оставшуюся с утра початую бутылку и прихлебнула).
Все это слегка успокаивает, но разум все еще лихорадит, а желудок крутит тошнотой. Неплохо бы доковылять до ванной, принять по крайней мере душ и стереть весь этот макияж, но голова кружится так, что трудно встать.
Вместо этого я тянусь за телефоном.
В Twitter я нахожу имя Афины, затем свое, а затем оба в сочетании. Только имена, только фамилии, с хэштегом, без хэштега. Ищу упоминания о Politics and Prose. Затем аккаунты в Twitter каждого сотрудника книжного магазина, чьи имена мне знакомы.
Там ничего нет. Получается, я единственная, кто углядела на вечере Афину. Все, что обсуждается в Twitter, — это насколько блестящим было мероприятие, как страстно и четко звучала я и как всем не терпится прочесть «Последний фронт». Поиск по запросу «Джун + Афина» выдает лишь один свежий твит, написанный каким-то, по всей видимости, случайным участником мероприятия: