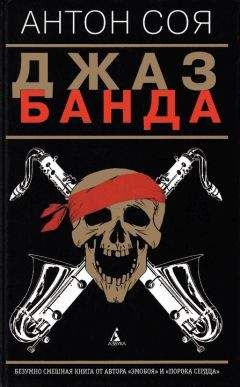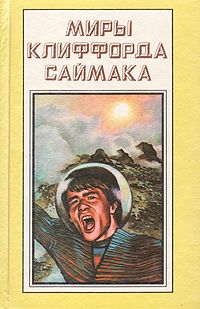На дне коробки лежал старый кассетный плеер с наушниками и кассета с полустёртой надписью «Луи Армстронг – избранное». Чуть поодаль – в правом углу, нашёлся сложенный вчетверо лист, запачканный чем-то бурым. По-видимому, это была кровь. Развернув бумагу, Пётр Петрович обнаружил текст, это была записка: «вставьте кассету в плеер, прослушайте запись и вам всё станет ясно» – говорил пляшущий, неровный рукописный шрифт.
Изнемогая от нетерпения, костистый гигант поспешил исполнить требования, изложенные в записке. Вставив кассету в плеер и нажав кнопку «play», он внимательно вслушался в статичный треск, наложенный поверх едва различимой джазовой композиции. Однако спустя всего секунду сквозь шипящую какофонию проступил ровный и спокойный голос.
Здравствуй, мой дорогой кумир! Заранее приношу свои глубочайшие извинения. Мне совершенно не хотелось пугать тебя внезапностью посылки, но иначе никак нельзя. Я точно знаю, что ты открыл дверь, услышав имя «Пётр Петрович», но тебя привыкли называть совершенно по-другому. Твоя вторая шкура – Аркадий Валентинович, одна из сотен масок, что тебе, величайшему художнику и артисту, часто приходится надевать по зову образа жизни! Однако среди десятков других эта – любимая, потому что самая первая… Поверь, я желаю тебе только добра и процветания!
Теперь, когда страх перед внезапностью понемногу отступает, позволь мне поведать свою историю!
Как и любая страна третьего мира, мой родной город подвержен делению на касты: здесь есть свои князья, свои сюзерены, их вассалы и вассалы вассалов вперемежку с безродной чернью. Несмотря на то, что наступил двадцать первый век, здесь до сих пор царит социальное средневековье.
Широкие улицы залиты огнями неона, кругом пестреют яркие рекламные вывески, люди броско и безвкусно одеты и все до того разные, что по-птичьи одинаковые… будто стая разноцветных тропических попугаев. Каждый считает своим долгом иметь модный телефон последней модели, взять дорогую машину в кредит или всю жизнь горбатиться на кубик из бетона с дыркой для света – это они называют жильём. Весь этот круговорот тошнотворной фальши суть есть одна лишь оболочка, практически у каждого из моих земляков в голове до сих пор царит двенадцатый век. Мне печально и одиноко от того, что я так и не смог найти себе места среди них. Я люблю их и ненавижу, я также хотел бы стать счастливым, но отчего-то не могу. Мне хотелось бы стать одним из них, но какая-то чёрная желчь внутри моей души не даёт просто жить и радоваться, не думать ни о чём… Всё моё тревожное существование является одним лишь мерзким противоречием.
О кастах. Что касается меня, я – обувщик, представитель вымирающей профессии, сапожник – если говорить на старый манер. Мои родители делали обувь, родители моих родителей делали обувь, и я делаю обувь, ничего иного и не умею. Отец позаботился об ограничении всех возможных интересов. С шести лет и до позднего отрочества я вставал в пять утра и вместе с отцом шёл в мастерскую, где проводил за работой многие часы до самого захода солнца. Когда наступила школьная пора, однообразный быт немного трансформировался, но ровно на период обучения. Стоило сделать уроки, как над душой снова нависала рутина сапожных забот. Наука давалась мне легко, а те знания, что упорно отказывались подчиняться, удавалось добить многочасовой зубрёжкой.
Не припомню такого случая, когда хоть раз бы по-настоящему захотелось прибежать в мастерскую, с упоением помогать своему родителю шить сапоги, клеить подошвы ботинок и ладить набойки на каблуках женских туфель. Я мог бы возразить, сбежать, раствориться в ярком убожестве родного города, но увы, я трус, пожалуй, это единственное, в чём спустя столько лет хватает храбрости признаться самому себе.
Без преувеличения, главным спасением от надвигающегося безумия стал джаз. Отец не запрещал слушать музыку, и, скопив некоторую сумму карманных денег, я купил себе простенький кассетный плеер. Первенцем будущей коллекции джаза стал сборник лучших работ Луи Армстронга. О! Его я обожаю до сих пор и буду продолжать любить его даже в аду!
Мажорные гаммы, бас-профундо, а иной раз и бархатный бас-баритон, в сочетании с виртуозной игрой на трубе, поднимали мне настроение. Работа спорилась, любое дело выходило в сотню раз лучше, чем случись оно без музыки. Отец это видел и относился к моему увлечению с притворной снисходительностью: ему было плевать на моё душевное состояние, главное – это возможность выжать из сына по максимуму.
Я пытался освоить музыкальные инструменты, но для практики нужно было время, а его-то как раз и предательски не хватало. Мне хотелось пойти в музыкальную школу, научиться играть на трубе, также, как и чернокожий кумир (конечно, он не такой кумир как вы, Аркадий Валентинович). Когда папа узнал о моём намерении, у него случился настоящий припадок ярости. Любое проявление творчества он презирал, считал такую деятельность неполноценной, предназначенной для людей не могущих заработать на кусок хлеба честным трудом. Про трубу пришлось забыть навсегда. О моей неразделённой любви к музыке каждый день напоминала Элла Фицджеральд со своим меццо-сопрано на магнитной плёнке. Её скэт-вокал битым кирпичом, до крови, елозил по задворкам раненной души. Какая ирония: я купил новую кассету на деньги, подаренные отцом за помощь в шитье безвкусных ботинок с тупыми квадратными носами.
В институт так и не удалось поступить: по воле родителей я всего себя посвятил работе. Музыка стала анальгетиком для моей больной души, опиумом для разбитых надежд. Пребывая в полнейшей апатии, я мог стерпеть всё что угодно, но ровно до тех пор, пока джаз ласкал барабанные перепонки.
Когда мне исполнилось двадцать три, отец умер. Ему было сорок восемь лет: слишком рано для обычного человека, но удивительно много для хронического алкоголика. Его добил цирроз. Однако папе повезло: вместо того, чтобы месяцами мучиться в корчах, он ушёл из этого мира в одночасье. Просто взял, и отказался вставать в пять утра, чтобы по своему обыкновению пойти на работу. Только после вскрытия патологоанатом сообщил, что печень покойного папаши превратилась в распухшее гнойное месиво.
А потом умерла мать, робкая домохозяйка, которая только и умела, что ухаживать за своим любимым! В последние дни перед смертью её мучила сильная бессонница. Местный психиатр выписывал ей снотворное по рецепту. Я тешил себя мыслью о том, что мама попросту не рассчитала дозу проклятых таблеток… Она ушла из жизни тихо, навстречу своему дражайшему сапожнику-алкашу. Не прошло и двух недель после погребения отца, а я был вынужден похоронить и мать.
Немногочисленные родственники собрались вокруг двух чёрных курганов ещё рыхлой земли. Пришлось соврать, сказал всем, что у матери от горя отказало сердце. Дабы скрыть позор родного человека, не вижу ничего гнусного в такой маленькой лжи…
Мою родительницу лениво отпел необъятно-толстый, лысеющий священник в своей тёмной, ветхой часовенке. Родные окружили гроб и с высокопарным видом молились, растерянно бегая пустыми глазами по многочисленным православным иконам. Я тоже молился в такт фальшивому тенору иерея: «господи помилуй, господи помииииилуй!». Да простит меня Бог за столь жестокий обман. Я не хотел…
Я смотрел на долговязую, сухую фигуры матери, вытянувшуюся в узком деревянном гробу. Её лицо, в отличие от лика отца, не излучало спокойствия, напротив, сухие бескровные губы тревожно скривились, неподвижный лоб, казалось, нахмурился, тонкие пальцы длинных рук намертво сцепились, запястья крепко перетянули вериги. Весь облик её говорил о готовности в любой миг вскочить из гроба, сделать глубокий вздох и закричать: нет, я передумала, не хочу! Этот свет всё ещё не отпустил её душу, я это чувствовал.
Так случилось, что одни поминки сменились другими. Родственники ещё не успели разъехаться. Казалось бы, такой шок – пережить две смерти близких людей за столь короткий промежуток времени, ан нет, до чего же сволочная человеческая природа! Когда умер отец – мамины родственники выказывали сдержанное равнодушие, однако стоило умереть матери, казалось, моя тётка и её мерзкий муж тихо радовались внезапному реваншу. Фальшивые тосты за упокой, фальшивая скорбь, фальшивые слова сочувствия в мой адрес. Я чувствовал, как дух матери ходит меж нами, ища свободное место за накрытым столом. Хотя, возможно, у меня тогда просто съехала крыша, с кем не бывает, верно?
А потом я остался один… В огромной трёхкомнатной квартире-сталинке. У финнов есть поговорка: «Борьба за наследство превращает родных людей в кровных врагов». Что-то похожее пытались устроить мои тёти, дяди, двоюродные сестра и брат. Я был единственным сыном своих родителей, поэтому мне, как наследнику первой очереди, удалось отбить всю причитающуюся собственность без особых усилий. Так я стал владельцем трёхкомнатной квартиры в исторической части города, в наследство отошла и треклятая мастерская, которая теперь грозила стать единственным источником дохода.