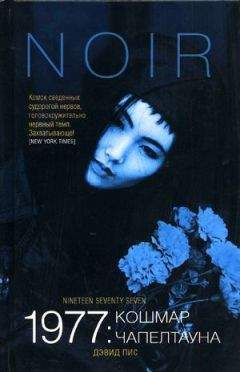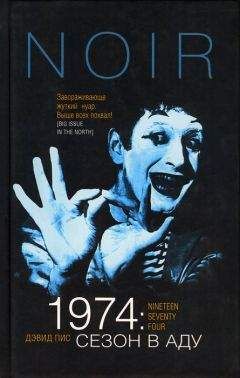– Я снял номер. Мы можем подняться туда прямо сейчас, и все закончится.
Я смотрел на старуху с палкой, на ребенка в углу, на брошюры и картины, на меркнущий свет.
Юбела, Юбело…
– Не сегодня, – сказал я.
– Я буду ждать.
– Я знаю.
Я шел обратно через городскую площадь, луна, почти полная, поднималась в синем вечернем небе, я шел обратно, мимо девушек и парней с планами на пятничный вечер, на начало юбилейных дней, обещавших дожди и возможность совокуплений, я шел через городскую площадь обратно в редакцию, зная, что могло произойти в номере наверху, обратно к тому, что уже поджидало меня совсем в другом месте, там, на моем столе, среди дождя и совокуплений. Я начинал нервничать.
Я опустил крышку унитаза и достал из кармана письмо.
Я подумал об отпечатках пальцев и о том, что сказали бы полицейские, но, с другой стороны, откуда им знать, что я в курсе, я уверен, что они ни о чем не догадываются.
Я снова посмотрел на штемпель отправителя: Престон.
Отправлено вчера.
Заказное.
Я разрезал верхний край конверта концом авторучки.
С помощью той же авторучки я вытащил из конверта лист бумаги.
Он был сложен вдвое, на тыльной стороне проступили красные чернила. Внутрь листа было что-то вложено.
Я развернул его, чтобы прочитать написанное.
Меня затрясло, уксус – в глазах, соль – во рту.
Так это кончиться не могло.
– Я позвоню Джорджу Олдману, – сказал Хадден, не отрывая взгляда от листа плотной писчей бумаги, лежавшей на его рабочем столе, не глядя на его содержимое, лежавшее рядом.
– Так, ну ладно.
Он сглотнул, снял трубку и набрал номер.
Я ждал, луна закатилась, дождь прошел, ночь пропала.
Было поздно, слишком поздно, я опоздал на целую сотню лет.
Легавый в форме приехал прямо к зданию Йоркширского главпочтамта, положил конверт вместе с содержимым в пластиковый пакет и повез Хаддена и меня прямо туда, в Милгарт, где нас под белы рученьки проводили в кабинет начальника уголовного розыска Ноубла, то есть в бывший кабинет Олдмана, где они – Питер Ноубл и Джордж – уже сидели и ждали нашего прибытия.
– Садитесь, – сказал Олдман.
Рядовой положил прозрачный пакет на стол и удалился.
Ноубл достал пинцет и выложил из пакета конверт и письмо.
– Вы оба до него дотрагивались? – спросил он.
– Только я.
– Не волнуйся, мы потом снимем твои отпечатки, – сказал Олдман.
Я улыбнулся:
– Они у вас уже есть.
– Престон, – прочитал Ноубл.
– Дата отправления?
– Похоже, вчера.
Казалось, они оба углубились в свои мысли.
Хадден сидел на краешке стула.
Ноубл положил письмо обратно в прозрачный пакет и подвинул его к Джорджу Олдману вместе с конвертом и маленьким свертком.
Тот стал читать:
Господин Уайтхед,
Посылаю Вам кусочек кожи, снятый мною с одной из женщин и сохраненный специально для Вас. Все остальные кусочки я зажарил и съел, и это было объедение. Если Вы еще хоть немного подождете, я пошлю вам окровавленный нож, которым они были срезаны.
Я знаю, что Вы это оцените.
Поймайте меня, когда сможете.
Льюис.Никто не проронил ни слова.
Через некоторое время Ноубл сказал:
– Льюис?
– Это ведь ненастоящее имя, да? – спросил Хадден.
Олдман поднял глаза и уставился на меня через стол.
– Как думаешь, Джек? Настоящее?
– Этот текст взят из письма, отправленного некоему Джорджу Лаку в Лондоне во время убийств Джека-Потрошителя, в XIX веке.
Ноубл покачал головой:
– Это ведь ты написал ту статью под названием «Йоркширский Потрошитель»?
– Да, – тихо сказал я. – Это был я.
– Восхитительно. Отличная статья, черт побери.
Олдман:
– Ладно, Пит, не надо.
– Да ничего, спасибо.
Хадден:
– Джек…
– Значит, теперь каждый сумасшедший придурок, от Лидса до Тимбукту, будет присылать нам такие письма. Так, ради собственного удовольствия, бляха-муха.
Олдман:
– Пит…
– Это не сумасшедший. Это он.
– Не сумасшедший? Да ты только посмотри на это. Как ты можешь сидеть тут и рассуждать, мать твою?
Я показал на маленький сверток, лежавший у его локтя, на тонкий кусочек кожи, срезанной с миссис Мари Уоттс:
– Какие тебе еще нужны доказательства?
Снаружи, на ступеньках, среди ночи я достал сигарету и закурил.
– Что у тебя за проблемы с Ноублом? – спросил Хадден.
– Не нравится он мне.
– Он тебе не нравится?
– Он – мне, а я – ему.
– Ты, похоже, действительно уверен, что это письмо настоящее.
– А что? Ты так не думаешь?
– Не знаю, Джек. То есть откуда мне знать, черт побери, каким должно быть письмо серийного убийцы?
Я открыл дверь – они были в сборе, стояли, повернувшись ко мне шестью белыми спинами.
Я снял пиджак, налил себе стакан скотча, сел и взял в руки «Эдвина Друда».
Они по-прежнему стояли ко мне спиной и смотрели на луну.
Я улыбнулся сам себе и начал насвистывать:
– Мой любимый стоит на балконе…
Взвившись, Кэрол пролетела через всю комнату, обнажив зубы и ногти, нацелив их мне в глаза, в уши, в рот. Она вышвырнула меня из кресла на пол.
Крича:
– Ты думаешь, это смешно? Тебе смешно, да?
– Нет, нет, нет.
Смеясь:
– Смешно?
– Успокойся, я просто хочу отдохнуть.
Шипя:
– Такое светопреставление, а ты хочешь отдохнуть. К стенке бы тебя поставить.
Остальные скандируют:
– К стенке его, к стенке!
– Пожалуйста, умоляю, оставьте меня в покое.
Издеваясь:
– Оставьте меня в покое, оставьте меня в покое? А нас кто оставит в покое, а, Джек?
– Простите меня, пожалуйста…
Насмехаясь:
– Нам мало твоего «простите»!
Они открыли окна, дождь заливает, занавески вздымаются.
Вою:
– Мой любимый стоит на балконе…
Она взяла меня за волосы и прижала лицом к подоконнику:
– Он снова убьет, уже совсем скоро. Видишь луну? На лице – дождь, в желудке – ночь, в глазах – черная луна.
– Я знаю, я знаю.
– Знаешь, но ты его не остановишь.
– Я не могу.
– Можешь.
Они достали из ящиков мои кассеты, размотали пленку, распустили ее по ветру, мои книги, мои детские преступления, разодрали их на кусочки —
Рыдая:
– Мой любимый стоит на балконе…
– Ты знаешь, кто он.
– Не знаю. Это может быть кто угодно.
– Нет не может. Ты знаешь, что не может.
А потом она покрыла мой рот своим и начала высасывать мое дыхание. Я давился ее языком.
– Трахни меня, Джек. Трахни, как раньше.
Я оттолкнул ее, крича снова и снова:
– Ты мертвая, мертвая, мертвая, мертвая, мертвая, мертвая, мертвая, мертвая, мертвая-я!
Шепчет:
– Нет, Джек. Это ты – мертвый.
Они подняли меня с пола, отнесли в спальню и уложили в постель. Кэрол гладила меня по лицу, Эдди ушел, моя Библия была открыта:
«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут».[18]
– Мы тебя любим, Джек. Мы тебя любим, – пели они.
Не сдаваться, еще не время.
В последние дни.
* * *
Звонок в студию: Этот мужик, Муди, он же, вроде начальник Отдела по борьбе с порнографией в Скотленд-Ярде, да?
Джон Шарк: Бывший, да.
Слушатель: И все это время он брал взятки и оказывал содействие порнодельцам. Невероятно, бля.
Джон Шарк: Да, это вам не «Диксон из Док Грина».[19]
Слушатель: Хотя неудивлюсь, если он сам там снимался. Чертовы мусора. Аж противно.
Передача Джона ШаркаРадио ЛидсСуббота, 4 июня 1977 года
Я просыпаюсь от белесого сна, один в пустой постели Дженис, один в ее пустой кровати, один в ее пустой комнате.
Утро субботы, 4 июня 1977 года, два часа беспокойного сна, восход жаркого солнца.
Я дотягиваюсь до радио, включаю его:
– Трое полицейских застрелены в Ольстере, задержанный обвиняется в убийстве Найрака, забастовка Ассоциации независимых телеканалов продолжается, шотландские фанаты прибывают в Лондон, Гамбургская футбольная команда покупает Кигана за полмиллиона, ожидается, что температура достигнет 70 градусов по Фаренгейту.
А может, и больше.
Я сижу на краю кровати, голова начинает просыпаться:
Красные фонари, пистолетные выстрелы, отделения раковых больных, лагеря смертников, трупы под бежевыми плащами, кошмарные комнаты с мертвецами.
Я надеваю ботинки, выхожу в коридор и начинаю колотить в дверь Карен Бернс.
Глотаю воду, захлебываясь водой черной реки.
Кит Ли, еще один спенсерский кадр, в джинсах, без рубашки: