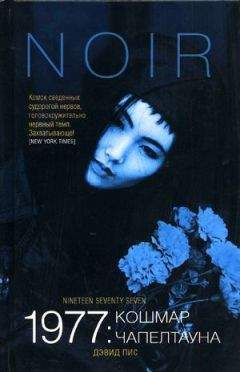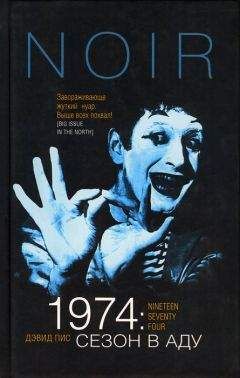Кит Ли, еще один спенсерский кадр, в джинсах, без рубашки:
– Тебе чего, блин?
– Дженис не видел?
Карен лежит в кровати на животе, Кит оглядывается по сторонам:
– Это по работе или по личному?
Я заталкиваю его обратно в комнату.
– Это не ответ, Кит. Это вопрос.
Карен поднимает голову:
– Вот черт.
– Я знаю, что вы сделали с Кенни. Это стоило вам его доверия.
Я бью его по лицу и говорю:
– Кенни трахал Мари Уоттс за спиной Бартона. Трахни чужую женщину – и с тобой будет то же самое.
Карен натягивает на голову грязную серую простыню и поворачивается ко мне своей белой задницей.
Кит трет щеку и показывает на меня пальцем:
– Да, ну ладно, я постараюсь не забыть об этом в следующий раз, когда сюда постучится Эрик Холл или Крейвен.
Я смотрю ему прямо в глаза, не отрываясь.
Он отводит взгляд, кивает сам себе.
Что-то не то с ним, с нашим Китом, и дело не только в том, что Кенни получил по заднице.
Но черт с ним.
Я стаскиваю простыню с Карен Бернс: белая женщина, двадцать три года, судимая за проституцию, наркоманка, мать двоих детей. Я хлопаю ее по заднице.
– Где Дженис? Где она, черт побери?
Она переворачивается на спину, одной рукой прикрывая свою лохматку, другой пытаясь ухватить простыню:
– Отвали, Фрейзер. Я ее с четверга не видела.
– Разве она вчера ночью не работала?
– Да хрен ее знает. Я же говорю: я ее не видела.
Я набрасываю на нее простыню и поворачиваюсь обратно к Киту:
– А Джо?
– Что, Джо?
– Что-то он затихарился.
– Он уже неделю не выходит из комнаты.
– Из-за того, что случилось с Кенни?
– Ни хрена. Год с двумя семерками.
– Ты что, веришь в астрологию?
– Я верю в то, что вижу.
– А что ты видишь, Кит?
– Миллионы маленьких апокалипсисов и кучу тупых толкований.
Я смеюсь:
– Флаг повесь, Кит. Юбилей все-таки.
– Отвали.
– Очень патриотично, – говорю я и закрываю дверь в их маленький мирок, загаженный кучами дерьма.
В замке поворачивается ключ, скрипит дверная ручка.
Вот и она, уставшая и затраханная.
– Что ты тут делаешь?
– Я же сказал тебе, я ее бросаю.
– Не сейчас, Боб. Только не сейчас.
Она уходит в ванную, захлопывая за собой дверь.
Я иду за ней.
Она сидит на крышке унитаза и плачет.
– В чем дело?
– Отстань, Боб.
– Скажи мне.
Она сглатывает, пытаясь сдержать рыдания.
Я сижу на полу, держу ее за подбородок, спрашиваю:
– Что случилось?
На задних сиденьях дорогих тачек, кожаные перчатки держат ее сзади за шею, члены в ее заднице, бутылки – во влагалище…
– Скажи мне!
Ее трясет.
Я обнимаю ее, целую ее слезинки.
– Пожалуйста…
Она встает, отталкивает меня, подходит к зеркалу, вытирает лицо.
– Да хер с ним.
– Дженис, я должен знать…
Она круто разворачивается, руки на бедрах:
– Ладно. Они меня взяли…
– Кто?
– А ты как думаешь?
– Отдел по борьбе с проституцией?
– Да, они самые.
– Кто именно?
– Хер их знает.
– Ты видела ордер на арест?
– Да какой там, бля, ордер…
– Ты сказала им, чтобы они позвонили Эрику?
– Да.
– И что?
– Эрик сказал им, чтобы они позвонили тебе.
Мою грудь сдавило, как канатом, тяжелым толстым канатом, затягивающимся все туже и туже с каждой секундой, с каждым предложением.
– Что они сказали?
– Они поржали, позвонили в участок. Потом позвонили тебе домой.
– Мне домой?
– Да, тебе домой.
– А потом?
– Они тебя там не застали, Боб. Тебя там не было.
– И что…
– Тебя ведь там не было, Боб?
Канат обжигает мне грудь, ломает ребра.
– Дженис…
– Ты хочешь знать, что случилось потом? Ты хочешь знать, что они после этого сделали?
– Дженис…
– Они меня отымели.
Желчь во рту, глаза закрыты.
– Посмотри на меня! – закричала она.
Я поднимаю крышку, кашляю, она – сзади меня.
– Посмотри на меня!
Я оборачиваюсь и вижу ее:
Голая и искусанная, красные полосы на груди, на животе, на заднице.
– Кто?
– Что – кто?
– Кто это сделал?
Она сползает по стене на пол ванной, рыдая.
– Кто?
– Я не знаю. Их было четверо.
– В формах?
– Нет.
– Где?
– В фургоне.
– Где?
– В Мэннигеме.
– А что ты делала в Брэдфорде?
– Ты же сказал, что здесь опасно.
Я держу ее в объятиях, как ребенка, качаю ее, целую ее.
– Хочешь, вызовем врача?
Она качает головой, поднимает глаза:
– Они фотографировали.
Черт, Крейвен.
– У одного из них была борода, и он прихрамывал?
– Нет.
– Ты уверена?
Она отводит взгляд и сглатывает.
Из окна на коврик падает яркий солнечный блик, ползет по полу, приближаясь к нам.
– Они – трупы, – шиплю я. – Все до одного.
И тут вдруг снаружи хлопают двери машины, стучат ботинки по лестнице, кулаки – по двери, по нашей двери.
Я выскакиваю в комнату:
– Кто там?
– Фрейзер?
Я открываю дверь – за ней Радкин, за ним Эллис.
Радкин:
– Какого хера ты здесь делаешь?
Мне видится Бобби, разбитые яйца и красная кровь на белых детских щеках, тормоза, сработавшие слишком поздно.
Слишком поздно.
– В чем дело? Что такое?
Но Радкин пялится мимо меня на вход в ванную, на Дженис, сидящую на полу:
Голую и искусанную, с красными полосами на груди и на животе.
Эллис стоит с открытым ртом, вывалив язык.
– В чем дело?
– Новый случай.
Я поворачиваюсь и закрываю дверь прямо у них перед носом.
В ванной я говорю:
– Мне надо идти.
Она молчит.
– Дженис?
Тишина.
– Милая, я должен идти.
Тишина.
Я беру с кровати одеяло, несу в ванную и накрываю ее.
Я наклоняюсь и целую ее в лоб.
Потом я возвращаюсь к двери и открываю ее – они по-прежнему стоят на площадке и заглядывают мне через плечо.
Я закрываю дверь и проталкиваюсь между ними. Вниз по лестнице – и в машину.
Я сижу на заднем сиденье, яркий солнечный свет прямо в лицо.
Радкин – за рулем.
Эллис все оглядывается на меня, улыбается, ему неймется начать, но это – машина Радкина, и Радкин за рулем, так что он сидит молча.
А я смотрю из окна на Чапелтаун, на деревья, на небо, на магазины, на людей. Мне кажется, что я под наркозом.
Если это снова он, то ощущения совсем другие.
Пусто, у меня в голове пусто.
Деревья зеленые, а не черные.
Небо синее, а не кровавое.
Магазины открыты, а не заколочены.
Люди живые, а не мертвые.
Полдень в другом мире.
Я думаю о Дженис:
Деревья черные.
Небо кровавое.
Магазины заколочены.
Люди мертвы.
Милгарт, Лидс.
Суббота, 4 июня 1977 года.
Полдень.
Все в сборе:
Олдман, Ноубл, Олдерман, Прентис, Гаскинс, Эванс вместе со своими отрядами.
И Крейвен.
Я ловлю его взгляд.
Он улыбается, потом подмигивает.
Я мог бы убить его прямо сейчас, здесь, в зале заседаний, до обеда.
Он наклоняется к Олдерману и шепчет ему что-то на ухо, похлопывая себя по нагрудному карману. Оба смеются.
Три секунды спустя Олдерман бросает на меня взгляд.
Я смотрю на него в упор.
Он отводит глаза с легкой улыбкой.
Черт.
Они все шепчутся между собой. Я теряю терпение:
Помойка, черное длинное бархатное платье на помойке.
Олдман заводит:
– Сегодня утром, без четверти семь, разносчик газет услышал крики о помощи, доносившиеся с помойки у храма Сикхов в переулке Боулинг Бэк, в брэдфордском микрорайоне Боулинг. Он обнаружил тяжело раненную Линду Кларк тридцати шести лет, лежавшую на земле. У нее был проломлен череп, а также имелись колотые ранения в области живота и спины. Предварительное заключение показало, что черепно-мозговые травмы были нанесены молотком. Она была немедленно доставлена в больницу Пиндерфилд в Уэйкфилде, где и находится в данный момент под круглосуточной полицейской охраной. Несмотря на тяжесть нанесенных ей ранений, миссис Кларк смогла дать нам кое-какую информацию. Пит.
Она лежит на животе на помойке, ее лифчик задран, трусы спущены, его штаны – тоже.
Ноубл встает:
– Миссис Кларк провела вечер пятницы в клубе «Мекка», в центре Брэдфорда. Покинув «Мекку», миссис Кларк направилась к стоянке такси и заняла очередь, она собиралась ехать домой, в Бирли. Поскольку очередь была очень длинной, миссис Кларк решила пойти пешком и попытаться поймать машину по дороге. Некоторое время спустя к обочине подъехала машина, и водитель предложил подвезти миссис Кларк до дома. Она согласилась.
Ноубл замолкает, оглядывается на Джорджа.
Он кончает себе в ладонь, потом режет ее.
– Господа, мы ищем автомобиль марки «Форд-кортина-2», седан, белый или желтый, с черной крышей.
Мы вскакиваем на ноги, почти бегом направляясь к выходу.