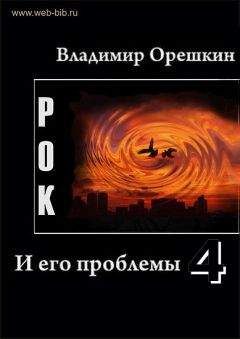На углах улиц околачивались невзрачные, поплевывающие семечками, продавцы. Нужно было лишь отдать им деньги, — и такой благодетель кивнет тебе на пустую сигаретную пачку в канаве. Ты схватишь ее жадно, — и в ней найдешь долгожданное, — дозу, завернутую в обрывочек местной прессы.
В которой, — а Гвидонов просмотрел годовую подписку, — ни слова не было о волне небывалого счастья, захлестнувшего город.
А все какие-то более важные вещи…
Как-то получалось, что вместо того, чтобы пользоваться днями досуга и изучать тонкости буддизма, Гвидонов все чаще захлопывал очередной пыльный талмуд, и смотрел куда-то, не видя, перед собой.
В какие-нибудь абстрактные одурманенные зельем глаза… До которых ему, как до и фени, нет никакого дела.
Большой пряник и большой кнут.
Больше ничего.
Только кнут и пряник, — и бесчисленное количество коктейлей, составленное из этих двух составляющих. Побольше кнута, поменьше пряника, поменьше кнута, побольше пряника… А то и вовсе можно обойтись без пряника, пряник, — несказанное счастье.
Вот, например, Чурил. Он в полной уверенности, что перепугал его, Гвидонова, до конца жизни. До самых кончиков волос.
Но так и есть. Перепугал.
До него, Гвидонова, хорошо дошло, — все, на что ему намекали.
Пряник, — румян и свеж. Так хочется добраться до него и откусить кусочек. Чем дальше, тем больше начинаешь в него верить, тем больше из эфимерии, из сгустка воздуха, он начинает превращаться во что-то более осязаемое, реальное, — что, в конце концов, можно будет потрогать на ощупь.
Так приятно будет потрогать…
Дело мужика, после того, как ударили с хозяином по рукам, — приступать к работе, выполнить все, о чем они договорились. Ну, а потом, получить заработанное.
Такая идеальная схема.
Может быть, когда вгоняешь в нужное место гвоздь, или выкладываешь на раствор кирпич к кирпичу, или задаешь корм усталому к вечеру стаду, — так и бывает. Может быть.
Но когда каждую минуту нужно делать то, что до тебя еще никто не делал, когда нет дороги, по которой можно посвистывая, пойти, напрягая лишь руки и ноги, — тогда начинают возникать большие сомнения.
Но ведь отдаст же, отдаст. Гвидонов знал, за Чурилом закрепился имидж человека, который держит свое слово. Если пообещал замочить, — замочит, если пообещал отдать, — отдаст… Отдаст ли?
Насчет замочить, сомнений никаких не было.
Ох уж этот пряник, молотом занесенный у него над головой.
Он бы, Гвидонов, на месте Чурила, может быть, отдал бы гонорар, — после получения долгожданного эликсира или его рецепта, отдал бы, раз пообещал. Нельзя не ценить свое слово.
Но потом бы — замочил. Обязательно.
Потому что невозможно, чтобы жил человек, который так много знает лишнего, глубоко твоего, интимного, внутреннего — и иногда пьет, и иногда болтает, — и есть Бромлейн, а не Бромлейн, так есть еще всякие шустрые ребята, который могут как-нибудь прийти к знатоку и задать парочку вопросов. На которые им ни один знаток не сможет не ответить. Настолько они простые.
И — доходчивые…
Чурил — не дурак.
Не дурак — замочит. Ну, может, постарается, чтобы смерть была легкой и безболезненной. В знак заслуг… Но, скорее всего, не постарается. Какая получится, такая и получится. Какие в этом деле могут быть сентименты…
Это плохая новость.
Но есть хорошая. Гвидонов знает, когда эта печальная история может произойти. Никогда, — раньше. И обязательно, — позже.
А знание, — сила…
— Ты вчера начала говорить об архитектуре, — сказал Гвидонов. — Наш разговор перешел на другую тему. А там было что-то интересное. Так что, я не дослушал.
— Тебе было интересно? — не поверила Мэри.
Она повернулась к нему, с саркастической улыбкой. Игравшей на устах. И сказала, тоном повидавшей всякое женщины:
— Этого не может быть.
— Я такой безнадежный дикарь? — смиренно спросил Гвидонов.
— Ты — безнадежный эгоист. Кроме работы тебя ничего не интересует в жизни.
— Я ел с тобой лягушек.
— Ты меня напоил. Специально.
— Зачем? — невинно спросил Гвидонов.
— Сама ломаю над этим голову. Потому что в этом не было никакого смысла… У меня потом целый день болела голова.
— Виноват, — сказал Гвидонов. — Больше этого не повторится.
— Но мне было хорошо, — строптиво не согласилась с ним Мэри.
Вот, пойми после этого женщин…
— Я с тобой говорила не об архитектуре, о развалинах этой самой архитектуры… Но развалиться должно что-то очень дорогое, грандиозное, во что, когда оно строилось, архитектор и строители вкладывали душу. И что, после этого, простояло века. Так что вобрало в себя, как старое вино, нечто неуловимое, — став аристократичным…
Мэри, сказав это слово, посмотрела на Гвидонова, — как он сейчас к нему отнесется, не проснется ли в нем, как вчера, душа русского революционера… Душа не проснулась, Владимир на ненавистное для себя слово отреагировал спокойно, — и она продолжала:
— Нет ничего вечного. Все рано или поздно, исчезает. Но здания держатся дольше всего, еще дольше держатся их развалины… Я чувствую это в себе.
— Как они разваливаются? — переспросил серьезно Гвидонов. Словно изо-всех сил старался понять Мэри.
Мэри же посмотрела на него сверху вниз, как смотрят учительницы, и продолжала:
— Развалины дворцов, храмов, и очень старые кладбища, куда уже давно не приходят поплакать над могилами родственники. Это одно и то же… Туда меня тянет, как магнитом. Во всем этом есть невообразимое очарование. Там так торжественно. И сейчас мне больше всего хочется попасть в такое место. Я даже во сне сегодня видела, как я долго одеваюсь, настраиваю себя, на какой-то и грустный и возвышенный лад, а потом еду туда на автобусе.
Мэри замолчала, Гвидонов вопросительно посмотрел на нее, и она сказала:
— Я туда не доехала. Потому что это, — сон.
Обычно, беременные женщины хотят чего-то скушать: соленый огурец, селедку, какую-нибудь особенную колбаску или кусок сыра с плесенью. Если этого нет, они начинают страдать. И портят всем настроение, — пока кусок этой селедки им не дать.
Таковы особенности дамского беременного организма.
Эта же захотела отправиться на какие-нибудь величественные развалины, — чтобы побродить среди них, и набраться подлинного аристократизма.
Гвидонов нисколько не возражал, чтобы его сын начал не с желудочных потребностей, а с чего-то более возвышенного. Поскольку это его растущие потребности желают не куска колбасы, а древних руин, где, на самом деле, как-то должно меняться настроение. В сторону более вечных ценностей.
Он даже начал размышлять, где бы найти поблизости какие-нибудь исторические камни, расписанные первобытным человеком сценами охоты на мамонтов. Чтобы устроить для Мэри в это место праздничную экскурсию.
Но тут на столе перед ним зазвонил телефон.
— Нужно поговорить, — сказал Чурил.
— Конечно.
— Сейчас четырнадцать двадцать. Жду тебя к семи вечера. Не опаздывай, — хихикнул он.
2.
Москва нисколько не изменилась, но стала пустыннее. Первомайские уже прошли, девятое еще не наступило, — народ был на дачах и приусадебных участках, приводил их в рабочее состояние после зимней спячки.
Все, что заметил особенного Гвидонов, на улицах стало просторнее, и пропали автомобильные пробки.
Но так случается каждый год, в это время.
Вроде, ничего нового не произошло в городе, за время его долгого отсутствия. Что он, вроде, почувствовал. Какую-то незначительную перемену. Зря он вглядывался в город из окна машины.
Ничего нового вокруг…
Но перемена была. И, должно быть, важная. Он, все-таки догадался.
В нем самом…
Был он что-то уж слишком спокоен. Перед такой важной встречей…
Должно быть, сказались напряженные занятия буддизмом. И медитация подневольно вошла в сознание, каким-то божественным образом, — производя в его организме благотворное успокаивающее действие.
— Успеем к семи? — спросил он Петьку, который сидел на переднем сиденье.
— Будем, как штык, — ответил тот. — Без пяти прибудем. Минута в минуту, обещаю.
Водитель, в знак согласия, кивнул.
Тут зазвонил телефон. Это была Мэри.
— Ты уже в Москве? — спросила она.
— Да.
— Я забыла напомнить про подарки… Я люблю получать подарки. И люблю, когда подарков много.
— Что-нибудь конкретное? — спросил Гвидонов.
— Я люблю сюрпризы, — сказала Мэри. — Ну, целую тебя.
Какого черта он оставил ей номер… Это же смех и грех, — когда тебя вдруг достают с таким немыслимым бредом. В самый неподходящий момент. Когда вокруг торжественность предстоящей аудиенции, и дух восточных курений. И нет никакого волнения.
Спокойствие, — только спокойствие.