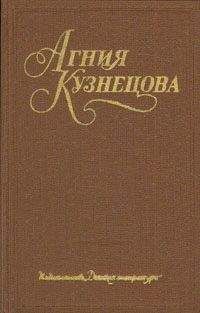Так что мы стали похожи на современный рабочий класс, который уже не объединяется, чтобы разрушить, а потом на этом месте выстроить новый мир, — и пьет теперь не на рабочем месте, а после, а на рабочем — вкалывает будь здоров, потому что могут выгнать, что при безработице чревато проблемами.
Наш, отколовшийся от общей массы кусочек, передвинули в столовую, где дали довольно много вкусной еды: пшенную кашу с мясом, сладкий чай, хлеб, белый и черный, сколько хочешь.
Ни за душ, ни за форму, ни за ужин — не взяли ни копейки. Даже намека не было, что мы должны за что-то заплатить. Житуха — почти коммунизм. Трескай — не хочу.
Но где это видано, чтобы братки старались за бесплатно, от чистого сердца. И укольчики, — представляю, сколько они стоят. По ценам черного рынка.
На деньги ставить нас бесполезно, на то и дембеля. Так что оставалось последнее, — отработка.
Форма соответствовала…
Ничего другого в голову не приходило… Но что мы можем, что умеем, на какой самоотверженный труд способны, в какой области являемся настолько уникальным специалистами, что о нас проявлена такая забота?
Ребята стали постепенно возвращаться на землю, а эйфория сменяться депрессией. Они поскучнели, методично ели кашу, кто с хлебом, кто — без, пили чай, взгляды их были пусты и усталы, как-будто взгляды их основательно до последней капли насухо выжали.
Из всех нас вертухаи запомнили в лицо только меня, они произвели меня в главные дорожники, чуть ли не в свои помощники, потому что разговаривали только со мной:
— Малый, скажи своим, чтобы не рассиживались. Сколько можно жрать.
— Эй, Малый, скажи тому, если еще раз со стула свалится, я его этим стулом отоварю…
Другой бы, на моем месте, загордился от своей избранности, покрикивал бы на дембелей петушком, — но я, должно быть, еще не осознал счастья, подвалившего мне. И мало обращал внимания на реплики вертухаев…
На десерт подали сеструху. Тоже в белом халате, но без чемоданчика с красным крестом. Свой запас она тащила в обыкновенной дамской сумочке.
— Начинай вон с того, — показали вертухаи на меня. — Вот такой крутой малый, духарной на все сто.
Так что мне досталось первому.
Опять отрублюсь, — думал я, — вот некстати. Только бы проваляться не слишком долго.
Все никак не мог выкинуть из головы свой созревающий, но все никак не созревший до нужной кондиции, шанс.
На этот раз прошло легче, — если можно назвать то, что я испытал, этим словом. Легче, в том смысле, что сознание я сохранил, и очередного припадка не произошло.
В моих банальных припадках, к которым я притерпелся, самым неприятным было то, что начинались они с того, что я умирал… Умирал, умирал, еще раз умирал, — и все никак умереть не мог… Такое надо мной устроил собственный организм тихое издевательство.
Ни разу еще не случалось, когда чувствовал его приближение, чтобы решил, что это очередная игра. Несмотря на богатый опыт… Все было устроено так естественно, что каждый раз казалось, что это и есть — последний. А все предыдущее — обыкновенная репетиция. К подступающему этому.
Наверное, я чудовищный лох, раз от раза к разу позволяю водить себя за нос одной единственной шуткой. Неисправимый лох… Но лох — это судьба.
Возможно, единственную пользу, которую я извлек из всего, что случалось со мной, — это усталость. Усталость, бесконечно обманутого человека… Я перестал бояться этого дурацкого процесса, который так пугает все разумное и живое, со дня сотворения мира. То есть, я боялся, естественно, куда уж без нашего основного инстинкта, но боялся как-то свысока, и словно со стороны издевался над собой, без меры боязливым.
Так как-то, незаметно, образовалось два человека: Лох, и тот, кто иронизировал над ним…
На этот раз, после второго укольчика, — не прошло минут двух или трех, как я почувствовал в крови что-то инородное, несущее погибель.
И, как всегда, тут же ушел в себя, — лох во мне тут же вспомнил, что на нем чистое исподнее, и он весь чистый, готовый без стыда предстать перед всевышним.
А я подумал: что я ему скажу, этому всевышнему, когда предстану перед ним?..
— Смотри, вот это приход, — я видел, как пастухи показывали на меня, углубившегося в свой внутренний мир, пальцами, — прямо с полуоборота… Точно, крутой мужик…
А я думал: что я ему скажу? Мне же нечего ему сказать, так, начну городить какую-нибудь ерунду… И кому я должен городить ерунду, когда никого нет, кому ее можно городить… Никто меня там не встретит, как бы я не это не надеялся.
И я решил побороться, так, ради смеха, посмотреть, что из моего куцего сопротивления может получиться. Надо же, хоть когда-нибудь, попытаться разнообразить происходящее…
Решил не подпускать опасность, эту волну, несущую забвение, к себе. Я вдруг здорово обозлился на себя, беспомощного, привыкшего ко всяким проникновениям, — кто хочет, тот и проникает, не человек, а проходной двор какой-то.
Когда-то нужно положить этому конец. Я встал между лохом и подступающей волной. Этой дурацкой. Встал — и стоял. И знал, — не пропущу ее. Мимо меня она не пройдет. И через меня — тоже.
Потому что я круче.
Просто, значу гораздо больше. Серьезней и угрюмей… И — все. Больше ее — и все…
И не пропустил.
От этого укольчика, когда он стал разлагаться, пошло гадкое амбре, как от сортира, — я боюсь, что испортил воздух вокруг, потому что даже вертухаи отшатнулись, распахнули зимнее окно, и стали обмахивать себя какой-то картонкой, как веером. Они бы сбежали, но были на службе. Сбегать им от моего амбре не полагалось.
Впрочем, они не знали, кто это так опростоволосился. Нас было пятеро все-таки, — один другого получше…
Они разразились матом, один старался перещеголять другого, — ничего особенного, обыкновенным щенячьим дворовым матом. На три с минусом. Что-то про вонючек и клопов…
Не сказать, что мне потребовались какие-то большие усилия, чтобы задавить в себе наркоту. Задавил — и все. Как-то естественно, почти без усилий.
Но в этот момент, я мог и вертухаев наших размазать по стенке, жаль что момент быстро прошел. А то бы так бы и сделал… Впрочем, храбрюсь.
После ужина и десерта нас переместили в спортзал, где на полу были разложены маты, а на них ловили «приход» остальные члены партии, в таком же пронзительно оранжевом одеянии, как и мы.
По разговору детсадовского Толика, я помнил, что в нашей партии недокомплект, но это в последний раз, и что наша партия уйдет недоукомплектованной… Вот, вот чего я жду, — начала общего движения, когда мы покинем границы базы. Тогда будет гораздо проще — раствориться во мраке ночи. Неизвестно где.
Ну, я и умен.
5
Матов было много, начинающие наркоманы особо не мешали друг другу, так что я выбрал почище, и незаметно закимарил.
Здоровый крепкий сон подступил ко мне, но перед тем, как заснуть, само собой представилось, как Маша с Иваном откроют мне дверь, когда я приду к ним. Как они удивятся моему трудовому виду. Представилось, как с порога посмотрит на меня Маша, и будет долго-долго смотреть, — полцарства только за один ее взгляд, полцарства…
Но снов никаких не снилось, — я пребывал в здоровом крепком небытие, где не было никаких изощренных видений. Галлюцинаций, перемешанных с реальностью, или реальности, замешанной на галлюцинациях. Слава богу, это значило, что стать наркоманом мне отныне не грозило. Так я, по крайней мере, решил, когда проснулся от бесцеремонного толчка.
Оказалось, нас строили, — большая группа дембелей уже стояла, а тех, кто медлил, или у кого плохо было со слухом, поднимали на ноги тычками. Как меня.
— Малый, — узнал меня знакомый вертухай, — косячка хочешь?
И принялся рассказывать обо мне приятелям, которых теперь было с десяток. Те посмотрели на меня с интересом, и я догадался, — быть мне старостой всей большой бригады. То есть, запросто могу выбиться в люди. Если захочу.
— Мужики, — объявили нам громко, — транспорт подан. По дороге не падать и не придуриваться. Выходить по одному. Первый — пошел!..
И первого мужика пинком направили в открытую дверь.
Так, скоро, и я оказался на улице. Мне тоже досталось по мягкому месту, — наверное, у пастухов, это был способ прощаться со своим стадом.
Была ночь.
У дверей спортзала стоял милицейский автобус с зарешеченными окнами. Такие подгоняли когда-то, в начальные годы перестройки, когда они еще были, к демонстрациям трудящихся. А потом сажали туда зачинщиков. Поскольку те демонстрации всегда были никем не санкционированы…
Здесь не сбежишь.
Да здесь не надо — сбегать.
Оранжевые наркоманы кое-как забирались по ступенькам внутрь. Один пел: «юбочка из плюша…», довольно бездарно, без слуха и голоса, — пастухи вмазали ему пару раз, за отсутствие таланта, но тот продолжал голосить, и от него отстали. Остальные переживали свои ощущения молча, или бормотали что-то под нос, — но это за декламацию не считалось.