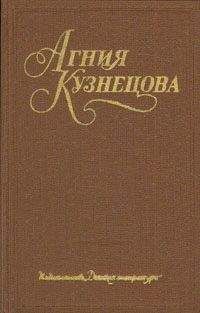Маша прижалась ко мне, и смотрела широко открытыми глазами в черноту тоннеля, где я уже побывал однажды.
— Только истерик нам здесь не хватало, — сказал Иван. — Чем эти дамочки отличаются от нас, мужчин, — у них, у всех, неустойчивая нервная система.
— Может быть, водички? — подсказал Толик, который все время был поблизости, и, казалось, не знал, как угодить почетным гостям.
Я кивнул, — и подумал, что, может быть, экскурсия закончилась, посмотрели на чудеса достаточно, пора делать отсюда ноги. Ничего интересного уже не будет. Впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь.
— Ей плохо, — сказал я всем. — Поехали-ка мы обратно.
Колян посмотрел на часы, стрелки показывали половину первого ночи: пора.
Часть вторая: получи, фашист, следующую гранату!.. Значит, говорите, рылом не вышел?!.
Он стоял в темном сарае, где были навалены пустые бочки, мешки с подмокшим цементом, сломанные лопаты и ящики из под консервов. В руках у него была керосиновая лампа, точно такие зажигали у них в деревне в детстве, когда после одиннадцати выключали электростанцию, и во всех домах гас свет.
Стекло было в пыли, но это было не важно. Главное, внутри плескалось, было чему гореть. Колян щелкнул зажигалкой, фитиль занялся, разгораясь. На все это он и одел мутное стекло.
Пол под ногами выстлан из прогнивших досок, и одна доска, рядом с которой он стоял, а теперь рядом с которой поставил лампу, была короткой, и по виду, получше остальных.
Именно ее он подковырнул ножом. Она легко поддалась, отошла от непрочных гвоздей, — под ней он обнаружил знакомое уже стекло, с красной кнопкой под ним.
Ударил слегка рукояткой ножа, то треснуло… Освободил осторожно кнопку от осколков, достал свои ключики, встряхнул связку, выбирая из всех — нужный.
Ключ вошел в кнопку хорошо, без усилий, — он повернул его по часовой стрелке до отказа. И вытащил… Теперь все будет работать.
Нажал… Простите, братишки, — прошептал Колян, — но не я первый начал. Вы сами виноваты.
И — подержал так, для гарантии.
Потом уже откинулся, прислонился к какой-то бочке, достал сигареты, и стал смотреть на улицу, через открытую дверь.
На тихую беззвездную заснеженную ночь.
Как она — хороша.
Какая-то тошнота подступила, будто бы вот-вот я должен отрубиться.
Что-то внутри дернулось, всепобеждающий животный страх охватил меня. Знакомое состояние. Как всегда, — не вовремя.
Когда вот так, обрушиваешься в себя, в сердцевину своего «я», и знаешь, жить осталось секунды, — есть лишь одно желание: чтобы этого никто не видел.
Чтобы это не произошло на глазах у всех.
Нет ничего глупее, бездарнее смерти, — которой заканчивается любая жизнь.
Мой бзик заключается в том, — чтобы это произошло в одиночестве. Бзик и награда, за все, что было со мной. От «А» до «Я».
Но Маша висела у меня на руке. Она держала ее так крепко, что освободиться от нее не было никакой возможность. Это же верх вселенского бреда, — дать дуба вот так, при ней, не сумев выполнить последнего своего желания. Которое было.
Что-то останавливалось внутри — навсегда. Уже какая-то серая тьма начала подступать издалека.
И сил, и сознания, и разума, оставалось, — на одно мгновенье…
Колян успел закурить, пока там по проводам, — и для страховки, по радио, — все сошлось в нужное место.
Он смотрел через открытую близкую дверь сарая, и сначала не увидел, а услышал: низкий незнакомый какой-то подземный гул, будто бы к нему изо-всех ног приближалось землетрясение.
Потом, сразу, затряслась земля, его, даже, немного подбросило, и из всех вентиляционных отверстий, из разных точек панорамы, которую он обозревал, вдруг поднялись в ночное небо ярко-красные огненные столбы.
Вот это красотища!.. Вот это было кино!..
Жаль только, быстро кончилось. А то он бы смотрел на это и смотрел.
Земля встала на место. Огненные плевки, растворились в вышине. Оставив после себя только едва заметный отсюда дым.
Вот и все. Преисподней больше нет. В помине… Ничего больше нет. И, может быть, блин, — его самого.
Время, перед тем, как исчезнуть, остановилось. Не здесь, не здесь, не здесь…
Я был не один, — все, кто был, в последнее мгновенье, моим миром, частью меня, — рядом.
Маша так крепко держала меня, что была продолжением моей руки.
Свободной рукой я схватил за шиворот Ивана, другую часть себя самого, — и ринулся к шлагбауму, сломав его хрупкие дощечки, как спички. Надо же, даже успел удивиться, что эти толстые бревна разлетелись, от нашего общего движения, в щепки.
Иван подлетел в воздух, пушинкой, словно беспомощный кутенок, в зубах заботливой мамаши.
Это был прыжок к смерти. В заваленную листьями берлогу, где тишина, и тлен, и вечный покой. Где ничего уже не будет…
Я — летел. Существо с тремя головами. С тремя туловищами… Сзади возникало пламя, и рев огненного дракона, который решил лишить меня моего покоя. Но покой — я заслужил.
Потому что покой — вечен…
Мы упали. Прокатились по земле.
Почему-то смерть медлила, — и я чувствовал, как мягко мы упали в прелые слежавшиеся листья берлоги.
Позади, в каком-то метре от нас, разбилась, как вода об аквариумное стекло, — огненная стена.
Ее синие прожилки пробегали по невидимому стеклу, не в силах преодолеть его. Она стучалась в него огромными камнями, бессильно опадавшими вниз, — не было власти во вселенной, которая могла бы лишить меня моего покоя.
Переливались детской радостью неоновые буквы, как из игрушечных кубиков, сложившие два слова: «Добро пожаловать!»
Пахло тишиной, и спокойной сыростью.
Я — не умер… Опять.
Хотелось спать. Долго, долго. Чтобы проснуться уже утром, под светом солнечного дня. Проснуться, потянуться до хруста в костях, открыть глаза, — и обрадоваться огромному радостному, полному жизни царству. В котором есть место и мне.
— Ничего себе! — услышал я сквозь сон, изумленный голос Ивана. — Вот это дела!
Маша сидела рядом, отпустив меня, и терла виски, как-будто у нее неприятно болела голова. Или только что болела, но теперь уже стала проходить.
Все будет хорошо, — сказал я себе, засыпая, — все будет хорошо. Все будет хорошо…