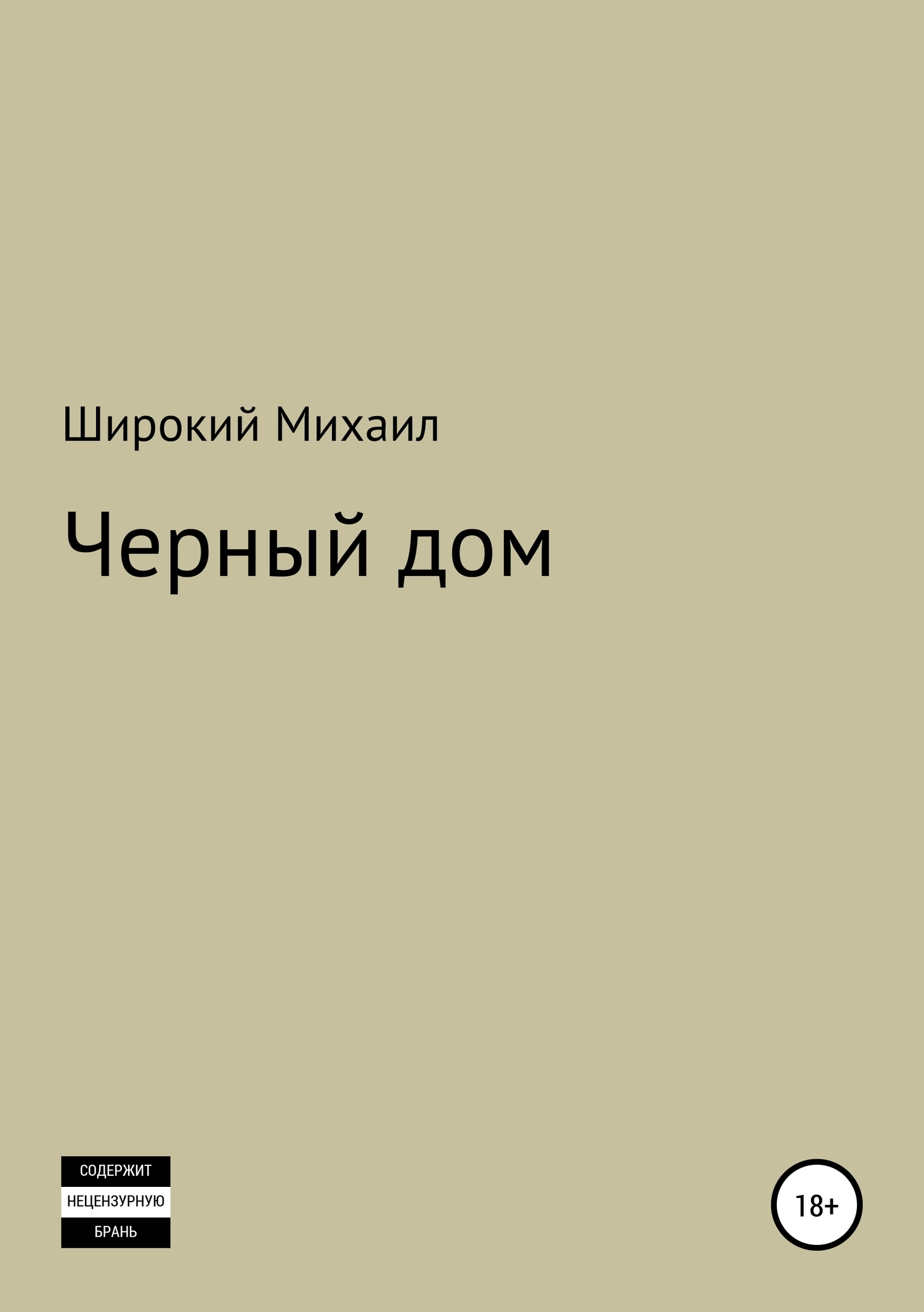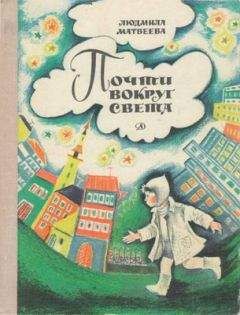исказилось, губы задрожали. Он явственно ощутил тоску и одиночество. Он почувствовал, что не может больше оставаться один, что ему необходимо кого-нибудь увидеть, выговориться, излить душу.
Гоша вернулся в комнату, оделся и двинулся к выходу. Но, прежде чем покинуть квартиру, мельком кинул взгляд на висевшее в прихожей большое зеркало. И невольно остановился. Он едва узнал себя. Из зеркала на него смотрело как будто чужое, не знакомое ему лицо. Бледное, измученное, словно постаревшее. Возле серых пепельных губ залегли две глубокие складки, щёки впали, лоб прорезала продолговатая изломанная морщина. Черты заострились и точно одеревенели. Но больше всего обращали на себя внимание глаза – округлившиеся, неподвижные, потухшие; в них – это ясно было видно – застыл стойкий неизбывный страх, взгляд был затравленный и жалкий, как у побитой собаки.
Гоша несколько секунд пристально смотрел на своё неприглядное отражение, затем невесело усмехнулся самому себе и, задумчиво качнув головой, вышел за дверь.
Глава 8
Выйдя во двор, Гоша, не глядя по сторонам, сразу же направился к беседке, словно точно знал, что его приятели там. И не ошибся: возле беседки, у входа в палисадник, расположилось – кто стоя, кто сидя на лавочках – около десяти человек. Центральная группа из четырёх человек сидела за столом и играла в карты. Остальные окружили их и оживлённо комментировали игру, то и дело бросая едкие реплики, пересмеиваясь, подтрунивая, давая насмешливые или, реже, дельные советы. Временами от общей компании отделялось два-три человека, чтобы обсудить какие-то свои вопросы, но ненадолго: в центре внимания по-прежнему оставалась игра, и все старались быть поближе к столу.
Всё изменилось, когда появился Гоша. Как только он подошёл к своим друзьям и, будто смущённый чем-то, остановился чуть поодаль от них, они тут же замолчали и с интересом, как на какое-то чудо, уставились на него. Игра прекратилась. Все внимательно и удивлённо, с головы до ног, разглядывали его, точно видели впервые или дивились его странному, необычному облику. На лицах у некоторых появились усмешки, иные начали переглядываться, перешёптываться и чуть ли не указывать на него пальцем.
Общее, несколько затянувшееся молчание прервал крепкий широкоплечий парень с бритой наголо головой и продолговатым белесым шрамом на левой щеке и подбородке, сидевший за столом с картами в руках. Он выглядел немного старше остальных, был очевидно крепче всех физически и, судя по его внушительному, самоуверенному виду, неторопливым, небрежным движениям и холодным, несколько высокомерным взглядам, бросавшимся им на окружающих, был явным, признанным лидером компании. Он тоже, как и другие, посмотрел на Гошу с лёгкой усмешкой и, тасуя карты, низким басовитым голосом произнёс:
– Ты, я вижу, очень интересно провёл где-то время.
Гоша ответил слабой, вымученной улыбкой и, сделав несколько шагов вперёд, присел на краешек лавочки. Взглянув искоса на не сводивших с него глаз друзей, медленно и глухо, будто не своим голосом, промолвил:
– Привет, Стас… Привет, пацаны… – И, чуть помедлив, спросил: – Где это вы были вчера? Искал, искал вас… не нашёл…
– Чего нас искать-то было? Мы и не думали прятаться, – ответил Стас, со всё большим интересом разглядывая помятую, унылую физиономию новоприбывшего товарища. – Ходили в крепость, как и договаривались позавчера. Ты что, забыл разве?
Гоша, опять помедлив, словно после небольшого раздумья, кивнул.
– А, да, верно… договаривались… Я и забыл совсем… Ходил тут, ходил… искал вас.
Стас удивлённо переглянулся с приятелями и, уже не усмехаясь, поинтересовался:
– А ты-то что поделывал вчера? Где пропадал?
Гоша вдруг помрачнел, нахмурился и опустил голову, охваченный сомнениями. Он колебался – стоит ли рассказывать о том, что произошло с ним? Не поднимут ли его на смех? Он слишком хорошо знал своих друзей, чтобы надеяться на искреннее, человеческое сочувствие с их стороны. Самые серьёзные и даже трагические вещи совершенно не трогали их и обычно служили для них лишь предметом более или менее остроумных шуток, чаще всего похабных и сальных. Так что, как он не без основания предполагал, ему вряд ли стоило рассчитывать на их понимание и поддержку.
Однако, кроме них, ему некому было рассказать обо всём пережитом им за последние сутки, не с кем было поделиться тем, что переполняло его доверху и стремилось выплеснуться наружу. Других друзей, более чутких, отзывчивых, доброжелательных, у него не было. А держать всё это в себе он был не в состоянии, ему необходимо было высказаться, открыть кому-нибудь свою тайну. И, помолчав ещё немного, точно не решаясь начать или собираясь с мыслями, он, уперев угрюмый неподвижный взгляд в землю, заговорил тихим, глуховатым голосом, холодным, безучастным тоном, будто говорил не о себе, а о ком-то постороннем, рассказывал не свою, а чужую историю.
Он поведал всё с самого начала до конца, подробно, обстоятельно, в строгой последовательности, не сбиваясь, не перескакивая с места на место, не повышая голоса и не изменяя тона даже в самых острых, драматических местах, словно читал книгу. Голос слегка изменил ему только один раз – когда он пытался описать свой ужас и отчаяние во время пребывания в подвале, в ожидании мучений и смерти, когда он прощался с жизнью и вспоминал родных и близких, которых, как он полагал тогда, ему уже не суждено увидеть. В этом месте рассказа в горле у него спёрло, а на глаза едва не навернулись слёзы, и лишь немалым усилием, он, кашлянув и проведя рукой по глазам, заставил себя после короткой паузы продолжить свою повесть.
Закончив, он вновь устало провёл ладонью по лбу и, оторвав взгляд от земли, устремил его на приятелей, стараясь определить по выражениям их лиц, какое впечатление произвёл на них его рассказ.
Те какое-то время молчали, словно переваривая услышанное и вырабатывая своё отношение к нему. На некоторых лицах по-прежнему бродили усмешки, точно им рассказали весёлую, захватывающую историю, до которых они были большие охотники; на других было написано сомнение, будто они услышали что-то совершенно невероятное, почти сказочное, чему не стоит придавать веры. И только на лице у Макса, ближайшего друга Гоши, парня с тонкими мягкими чертами и прямым выразительным взглядом, угадывалось наряду с недоумением доверие к словам товарища и явное сочувствие.
Неопределённое выражение сохраняло лицо Стаса. Он словно бы верил и одновременно не совсем верил Гоше. С одной стороны, его рассказ был слишком уж необычен и диковинен, сильно смахивая на мистификацию либо навеянную алкогольными парами (или ещё чем похуже) фантазию. Но с другой – плачевный, убитый Гошин вид, бледное, без единой кровинки лицо, мутный, потухший взор, сразу же бросавшиеся в