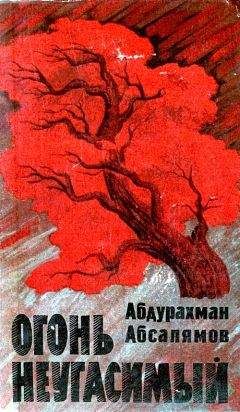Падали на балахон, и балахон становился мокрым от слез.
— Ты что, плачешь, да, Маш? — спросил Иван.
Тут она зарыдала, вообще, — даже перестала улыбаться. Настолько полностью отдалась этому занятию.
Ивану тоже захотелось заплакать, вместе с ней, даже в носу защекотало от желания, — но он не смог этого сделать.
Только лежал и смотрел, как это делает она. У нее здорово получалась… Но он всегда знал, что Машка, — большая рева.
Иван быстро поправлялся.
И один доктор, и другой были довольны восстановительным процессом.
Только один из них считал, что больной поправляется после простуды, а другой, — что после нервного срыва.
Ивану же было все равно, от чего он поправляется.
На следующий день он уже попросился на улицу, и целый час сидел на лавочке, вместе со столетним дедом.
Был он еще бледен, и даже немного похудел. Не разговаривал, просто сидел на лавочке и дышал свежим воздухом. Маша, которая была на всякий случай невдалеке, думала, что это не беда, — она его за неделю запросто откормит, до прежней кондиции.
Одна из девчонок, лет десяти или двенадцати, проходя мимо Ивана, поглядывала на него, и, отвернувшись, прыскала.
Заметив, что Маша смотрит на нее, она, с сильным башкирским акцентом, сказала:
— Два деда, — один молодой, другой старый.
Иван посмотрел на нее серьезно, и ничего не возразил.
Маша, — улыбнулась…
Минут через двадцать та девочка пришла снова, и поставила перед Иваном на лавочку деревянную мисочку, полную клубники. Оказывается, уже созрела клубника, — а Маша не знала.
Эта наглая девчонка, — опередила ее.
И не ушла, осталась стоять, уставилась на Ивана, все время хихикая, — решив посмотреть, наверное, как он будет уплетать ее клубнику.
Маша аж вся обмерла внутри, — такая пигалица!.. И в одно мгновенье почувствовала себя, — необыкновенно старой. Двадцать один год, — почти двадцать два.
Даже уже, наверное, двадцать два. Ведь — лето, а ее день рождение, — весной. Двадцать два, — голова кружится от этой страшной цифры.
— Как тебя зовут? — спросил Маша девочку.
— Роза, — ответила та.
— Роза, — сказала Маша, — ты, наверное, когда-нибудь выйдешь замуж?
— Мне еще рано, — прыснула девочка.
— Все равно. Я хочу сделать тебе свадебный подарок… Ты вспомнишь обо мне, когда у тебя будет свадьба. Хорошо?
— Хорошо, — недоуменно сказала девочка.
Маша вытянула перед собой пальцы и с усилием сняла кольцо, которое ей подарил дядя на восемнадцатилетие. На вид оно походило на серебряное, но на самом деле было платиновым, и не со стеклянными камушками, — а с очень красивыми бриллиантами. Одним желтоватого цвета, другим — белым, и третьим — в красноту.
Девочке оно оказалось велико, и Маша надела его ей на большой палец, на нем оно кое-как держалось.
— Не потеряй, — сказала Маша.
Иван все так же сидел на лавочке, но уже взял одну из ягод, большую и красную, и откусил от нее.
— Вкусно? — спросила его Маша.
— Очень, — согласился он.
5.
Мало того, что Маше понравилось старое деревенское платье, она еще повязала голову косынкой, как обыкновенная сельская баба, выходящая на прополку или сенокос.
Марату, хозяину дома, было все равно, — во что она одета. Он по-прежнему обращался к ней подобострастно, и с предельной почтительностью.
Заглядывали иногда два его товарища. Которые оказались соседями, и жили слева и справа от него. Их отношение к Маше было точно таким же.
Понятное дело, — их авторитет…
Но остальные домашние, а их было много, несколько недоумевали и не могли понять, — почему здесь, вместе с ними, живет посторонняя женщина с поезда, которой самое место, по ее статусу, на окраине деревни, на ферме, в сараях, обнесенных колючей проволокой и с двумя вышками по углам. Почему получается не так, а вот этак.
Но хозяину видней, — как сказал, так и будет. На то он, — и хозяин…
Маша старалась побольше кормить Ивана и выгуливать его на свежем воздухе. После завтрака она поднимала его и тащила в сад и огород, где все начинало плодоносить.
Они шли мимо грядок, вдруг Маша останавливалась и говорила, чуть ли не испуганно:
— Иван, смотри, — огурец… Настоящий.
Иван подходил ближе, смотрел, и спрашивал:
— Ну и что?
— Он — растет, — изумлялась Маша.
Она смотрела большими глазами на все, что видела раньше только в готовом виде в магазине или у себя на столе.
Ее приводили в восторг маленькие, но уже кое-где с боков начинавшие краснеть яблоки, вишни, которые можно было сорвать с ветки и тут же попробовать, картошка, которая зрела, где-то там под землей, морковь, которую можно было дернуть, и увидеть ее, самую настоящую… Ее приводило в изумление — все.
— В этом какая-то загадка, — говорила она, и причем, совершенно искренне, Ивану, — какая-то необъяснимость… Ты только представь, — из ничего, вдруг появляется веточка, она становился больше, и на ней начинает появляться фрукт. Ни с того, ни с сего… Это нельзя никак объяснить. Это выше моего понимания.
— Да ты не переживай, — утешал ее Иван, — я почти такой же… Дитя городского конгломерата… Они приезжают к нам, и их точно так же трясет от того, что бывают дома по тридцать этажей, каждый…
Ни в тот день, когда Иван сидел впервые на лавочке, ни в следующий, они не говорили ни о чем серьезном. Маша хотела поговорить, ей нужно это было, но она ждала, когда Иван окрепнет. Чтобы не одарить его очередным дистрессом.
Впрочем, серьезный разговор начался сам собой, без всяких усилий с обоих сторон.
Маша заставляла Ивана после обеда спать, часа три, не меньше. Чтобы плавно переварилась пища, которую он употребил до этого. Что полностью соответствовало рекомендациям врачей.
Иван, собственно, не возражал, — но на третий день дневной сон настолько выбил его из колеи, что вечером он никак не пожелал опять укладываться в постель.
— Что ты ко мне привязалась, спать да спать, — сказал он Маше, — что я тебе, смертельно больной что ли?.. Да не хочу я спать. Не хочу и не буду.
Между тем шел уже двенадцатый час ночи. Маша, которая весь вечер училась вязать спицами, и у которой мало того, что ничего не получалось, и выходил какой-то комок из ниток, но и эти нитки все время путались, превращаясь в узлы, — обрадовалась.
— Ну, тогда пойдем гулять, — сказала она, думая, что прогулка навеет на Ивана долгожданный целебный сон.
Она взяли в сенях фонарики, и вышли на улицу…
Была ночь.
Как бы сказать поточнее… Была звездная ночь. Была тихая теплая звездная ночь, без невидимых облаков сверху.
Зато сверху, как никогда, наверное, до этой ночи, было понатыкано всяких звезд и созвездий, — прямо какая-то мешанина из них. И ни одна не мешала другой как-то существовать… Не обратить на них внимания, не было никакой возможности. Потому что, это было единственное в мире, что светилось, и мириадами светлячков, освещало землю. Вернее, совершенно не освещало, но — светилось.
Кроме фонариков Миши и Ивана, конечно.
— Тебе нравится Роза? — спросила Маша.
— Я тебе не девчонка, — рассердился Иван, — это вы языком треплите, как помелом: нравится, — не нравится… Со мной на эти темы больше не разговаривай.
— Я с тобой никогда и не разговаривала об этом, — первый раз спросила. Мне она понравилась… Тебе сказать ничего нельзя.
Маше стало обидно, и она захотела заплакать. Но как-то не до конца, так что на полдороге остановилась.
— Ты знаешь, Ванечка, — сказала она как-то жалобно, — я всем приношу несчастье… Все вокруг меня становятся нервные, раздражительные, — и со всеми, со временем, происходит что-нибудь плохое… Я не знаю, что делать.
— С чего ты взяла? — пробасил в темноте Иван. — Такую ерунду?
— Это не ерунда, — вздохнула Маша, — это то, что есть на самом деле… Миша второй раз уже пропадает, ты — заболел, полковника ранило, шахта взорвалась… Все на грани какого-то смертоубийства. То чуть ниже этой грани, то чуть выше. И все из-за меня.
— Опять? — грозно спросил Иван.
— Не опять… — горестно сказала Маша, — а так и есть. Мне, кроме тебя, не с кем посоветоваться. Я так боюсь… Себя… Во мне что-то есть, Ванечка, я чувствую. Что-то разрушающее, что-то несущее всем горе, что-то, из-за чего всем становится плохо… Ты думаешь, я понимаю, что происходит? Я совсем ничего не понимаю. Совсем ничего… Вот взять то, что случилось в поезде, после чего ты заболел. Что там произошло, — я совсем ничего не понимаю. Я все время думаю об этом, — я стала какая-то другая, будто бы совсем не я. Тогда… Я понимаю: стресс от опасности, он что-то мобилизует в человеке, какие-то его внутренние резервы. Когда все чувства обостряются… Но не до такой же степени, — я тогда была сама не своя… Я тебе открою тайну, только ты ее никогда и ни кому не говори, дай мне честное слово.