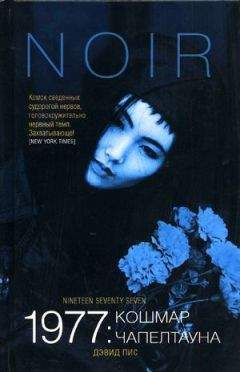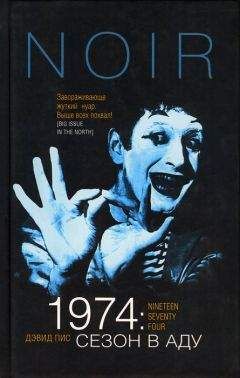Мы снова сидели – каждый в своей тишине, в своей мелкой отчаянной тишине, прильнув лицом к окну, положив когти на подоконник, мечтая вырваться прочь, прочь, прочь.
– Можно я тогда задам вам еще один вопрос?
Он сложил свой носовой платок и кивнул.
– Вы допрашивали людей из ночлежки?
– Из «Святой Марии»? Да, они были здесь, все до одного.
Я замер, у меня пересохло во рту, над холмами за окном мелькнуло кошмарное видение, кошмарное видение пьяной и сумасшедшей ведьмы, пьяной сумасшедшей, воющей на луну из-за тюремной решетки, решетки, впаянной в темную тюремную стену.
– И что они вам рассказывали? Что они говорили? – спросил я наконец.
– Ничего.
– Ничего?
– Ничего.
– А вы говорили с Уолтером Кендаллом?
Он закатил глаза:
– Со слепцом-то? Неоднократно.
– И что?
Альфред Хилл, начальник уголовного розыска Альфред Хилл, в первый раз за все это время посмотрел мне прямо в глаза и сказал:
– Мистер Уайтхед, вы пользуетесь превосходной репутацией среди сотрудников полиции Западного Йоркшира, превосходной репутацией как усердный корреспондент, содействующий расследованию преступлений, и поэтому ради вас я готов на многое, но эти ваши намеки – это уже слишком.
– Какие намеки?
– Мне очень, очень хорошо известно все, что говорил мистер Кендалл, говорил много раз, и я удивляюсь, что журналист, человек с вашей репутацией, настолько серьезно воспринял всю эту ерунду, что вам даже пришло в голову задавать мне подобные вопросы.
Я улыбнулся:
– Значит, я так понял, что эту версию вы не отрабатываете?
Альфред Хилл промолчал.
– Последний вопрос?
Он вздохнул.
– Вы сказали, что Клер Стрэчен была проституткой?
Он кивнул.
– У нее были судимости?
Он устал и хотел, чтобы я ушел.
– Посмотрите сами, – ответил он, пододвигая ко мне раскрытый протокол.
Я наклонился.
На листе бумаги были напечатаны две даты:
23.08.74.
22.12.74.
Рядом с каждой датой – цифры и буквы.
См. УКФДМОРРИСОН-К.ПРДПРС1А.
См. УКФДМОРРИСОН-К.УБГРД-П. СПК327С.
– Что это значит?
– Один протокол – предупреждение за проституцию, второй – свидетельские показания.
– А УКФД?
– Уэйкфилд.
В машине, мимо вересковых пустошей, со слезами на щеках.
Смеясь:
Безумные, бля, приступы хохота, давлю на педаль, сквозь очередную лавину юбилейного ливня.
Смеюсь.
Думая: идиот, идиот, идиот.
Глядя в зеркало заднего обзора, спрашиваю себя:
– Я что, похож на скрипку?
Смеясь:
Он, оказывается, тупой, как пень, черт его побери, тупее, чем я мог себе представить.
Смеясь:
Потому что он оказался тупым, потому что теперь-то он точно попался.
Смеюсь.
Педаль – в пол, окно открыто, голову – в дождь, крича:
– Ну давай, бля, померяемся силой!
Смеюсь:
– Давай, падла, покажи, на что ты способен!
Я остановился у телефонной будки, натянул воротник на уши и побежал со всех ног.
Я набрал номер.
– Я хочу заехать.
– Жду с нетерпением, – ответила она, почти смеясь.
Дождь кончился, как только начало темнеть – словно специально для них и их уличных празднеств, их идиотских факелов.
Ка Су Пен ждала на углу Мэннингем и Квинс, короткие черные волосы и грязная кожа, черное платье и колготки, в руках – сумка и куртка.
Я подъехал к обочине, она села в машину.
– Спасибо, – сказал я.
– Как дела?
– Нормально.
– Ты не хочешь пойти ко мне домой?
– Нет, если ты не против.
– Клиент выбирает, – ответила она, и мне очень жаль, что она так сказала.
Я повернул налево, потом еще раз налево. Когда мы выехали на Уэтли Хилл, она спросила:
– А куда мы едем?
– Я хочу здесь, – сказал я, поворачивая на спортивную площадку на Уайт Эбби-роуд.
– Но это же…
Я чувствовал, как бьется ее сердце, чувствовал ее страх, но сказал:
– Я знаю, и я хочу, чтобы ты показала мне это место.
– Нет, – она заерзала на сиденье.
– Тебе станет легче, намного легче.
– А ты-то откуда знаешь, а?
– Все кончится, раз и навсегда.
– Выпусти меня, выпусти меня сию же секунду, – сказала она, доставая из сумки деньги.
Я остановился на газоне у высаженных в ряд деревьев и заглушил двигатель.
Она рванулась к двери.
Я схватил ее за руку.
– Ка Су Пен, пожалуйста. Я не собираюсь делать тебе ничего плохого.
– Тогда отпусти меня. Ты меня пугаешь.
– Пожалуйста, я могу тебе помочь.
Она открыла дверь, опустила одну ногу на траву.
– Пожалуйста.
Она обернулась и посмотрела на меня: черные глаза на лице призрака, маска смерти из живой плоти.
– Чего ты хочешь?
– Садись назад.
Мы вышли из машины и встали посреди ночи, глядя друг на друга поверх крыши, два белых привидения, мертвенные, бледные, черноглазые – маски из плоти. Она взялась за ручку задней двери, но та оказалась запертой.
– Подожди, – сказал я и обошел вокруг машины, держа одну руку в кармане. Я смотрел на нее, она – на меня, луна – в деревьях, деревья – в небе, небо – в черном аду, там, высоко-высоко, глядит вниз, вниз на спортивную площадку, на площадку, где дети играют, а их отцы убивают их матерей.
Я подошел к ней сзади и открыл заднюю дверь.
– Садись.
Она села на краешек заднего сиденья.
– Ложись.
Она легла на черную кожу.
Я расстегнул ремень, стоя у двери.
Она наблюдала за мной, потом подняла задницу и спустила свои черные колготки и белые трусы.
Я поставил колено на край сиденья. Дверь была по-прежнему открыта.
Она задрала черное платье и потянулась ко мне.
И я отымел ее на заднем сиденье, и кончил ей на живот, и стер сперму рукавом с изнанки ее платья, и держал ее там, держал в объятиях, пока она плакала, там, на заднем сиденье моей машины, ее колготки и трусы болтались на одной ноге, там, в ночи, под юбилейной луной, я глядел в бордовое небо, освещенное фейерверком и факелами, и когда очередная беззвучная ракета полетела, крутясь, к земле, она спросила меня:
– А что значит этот юбилей?
– Это иудейская традиция. Раз в пятьдесят лет наступает год освобождения, это время отпущения и прощения грехов, конец раскаяний, то есть – время праздника.
– Ликования?
– Ну да.
Я отвез ее назад, в ее квартиру. Мы припарковались у дома, в темноте, и я спросил:
– Ты меня прощаешь?
– Да, – сказала она и вышла из машины.
Десять фунтов остались лежать на приборной доске.
Я поехал обратно в Лидс с ощущением тепла в животе, какое бывало у меня, когда я отвозил домой свою невесту и уезжал, а она стояла на пороге и махала мне, и ее родители тоже, вот тогда, вечность назад, двадцать пять лет тому назад, в животе было тепло.
Сияние.
Я не торопился подниматься по лестнице, я не торопился встретиться с ними.
Я повернул ключ в замке и прислушался, зная, что я никогда не смогу ее сюда привести.
За дверью звонил телефон.
Я открыл ее и снял трубку.
– Джек?
– Да.
– Это Мартин.
– Что тебе нужно?
– Я о тебе беспокоюсь.
– Не стоит.
Я проснулся в самый темный час беззвучной ночи. Фейерверки погасли. Я был весь мокрый от пота.
Поцелую тебя – ты проснешься.
Я проснулся, чтобы почувствовать нежность ее поцелуев на моем лбу, чтобы увидеть ее, сидящую на краю кровати с раздвинутыми ногами, чтобы услышать ее колыбельную.
Трахну тебя – ты уснешь.
Я проснулся, чтобы снова провалиться в сон.
Темные задыхающиеся улицы, ухмыляющиеся задние дворы, окруженные безмолвными камнями, погребенные под черными кирпичами, через подворотни и переулки, где не растут ни деревья, ни трава, ногу на кирпич, кирпич на голову, это дома, которые построил Джек.
Площадка для игр и приключений.
Лютики-цветочки у меня в садочке.
Мэри-Энн, Энни, Лиз, Кэтрин и Мэри, взявшись за руки, вокруг шелковицы, припевая:
– Там, где вы ищите одного – двое, где двоих – трое, где троих – четверо.
Кошмарное место, злобное сплетение трущоб, скрывающих грязные человеческие страстишки, где мужчины и женщины питаются джином, где чистые воротнички рубашек – невиданное неприличие, где у каждого жителя синяк под глазом, и никто никогда не расчесывает волосы.
Площадка для игр и приключений.
Лютики-цветочки у меня в садочке.
Тереза, Джоан и Мари, взявшись за руки, вокруг шелковицы, припевая:
– Там, где вы ищите четверых – трое, где троих – двое, где двоих – один, и так далее.
Недалеко от сердца есть узкий дворик, тихая улочка с широкими воротами, в них есть маленькая калиточка, ею пользуются, когда ворота заперты, хотя на самом деле их каждый час отворяют; согласно свидетельству граждан, проживающих неподалеку, вход во дворик редко бывает закрыт.