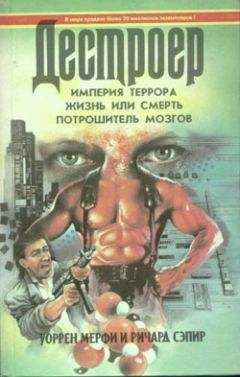Инспектор нажал «стоп» и поставил перемотку. Катушки быстро завертелись. Магнитофон принадлежал торговцу наркотиками – они часто так делают. Такая запись дает им шанс на защиту. Кроме того, так можно заработать немного дополнительных деньжат – на шантаже. Ее можно использовать как угодно.
Пленка перекрутилась. Уолдман снова нажал на «стоп», потом включил воспроизведение.
– Привет, привет! Как я рад, что вы все здесь! – Голос был высоким и сладким – такой часто бывает у «голубых». – Вам, наверно, страшно интересно, что я вам приготовил.
– Деньжата. – Этот голос был грубее, глубже. – Капусту. Презренную зелень.
– Конечно, дорогие мои. Разве я могу лишить вас средств к существованию?
– Для дельца вы слишком откровенны. Слишком! – Это говорила девчонка.
– Тише, тише, драгоценные мои! Я художник. И мне много чего приходится делать для того, чтобы выжить. Кроме того, и стены имеют уши.
– А не вы ли сами их приделали?
– Тише, не надо ссориться при госте.
– Это ему что-то нужно от нас?
– Да. Его зовут мистер Ригал. Он дал мне денег на всех. Много денег.
Хорошеньких, чудненьких денежек!
– Ну, нам-то хрен чего от них достанется.
– Наоборот – огромное количество. Он хочет, чтобы вы кое-что сделали в его присутствии. Нет, Марла, раздеваться не надо, ему нужно вовсе не это. Мистер Ригал хочет, чтобы вы как художники поделились с ним своими творческими способностями.
– А что он делает с трубкой?
– Я сказал ему, что гашиш помогает развитию творческих способностей.
– Но он уже принял целую унцию. Сейчас совсем очумеет!
И тут раздался голос – ровный и монотонный, от которого у Уолдмана мороз прошел по коже. Стоя на корточках возле магнитофона, инспектор почувствовал, как у него сводит ногу. Где он мог слышать этот голос?
– Я не отравлюсь, если я правильно понял ваши слова. Более того, я полностью контролирую свои чувства и рефлексы. Возможно, именно это сдерживает мои творческие возможности. Поэтому я курю больше, чем обычно, точнее, больше того, что считается обычным в вашей среде.
– Красиво излагает, зараза!
– Вы употребили уничижительный термин, и я нахожу, что потворство подобному обращению может привести в дальнейшем к покушению на целостность субъекта. Так что кончай с этим, ниггер!
– Ну-ну, милашки! Давайте по-хорошему. Пусть каждый из вас покажет мистеру Ригалу, что умеет. А он посмотрит, как происходит процесс творчества.
Воцарилось молчание, было слышно только шарканье ног. Уолдман различал какое-то невнятное бормотание. Кто-то попросил «красную», и инспектор решил, что речь идет о краске. Потом женский голос, ужасно фальшивя, запел. В песне говорилось об угнетении и о том, что свобода – это лишь еще одна форма угнетения и что исполнительница хочет немедленно трахнуться с тем, кому она поет, по это никак не затронет ее чувств. «Только тело, малыш» – так, кажется, называлась песня.
Затем снова послышался монотонный голос:
– Я заметил, что художник во время работы остается абсолютно спокойным, а певец, напротив, сильно возбуждается. Гомик, как ты можешь это объяснить?
– Мне не нравится ваше обращение, но все идет так хорошо, что я не стану обращать внимание на подобные пустяки. У меня есть объяснения на этот счет. Творчество идет от сердца. Виды творчества могут различаться, но в любом случае сердце, наше нежное сердце всегда является центром любого творческого процесса.
– Неверно. – Снова этот ровный, приглушенный голос. – Все творческие импульсы испускает мозг. Сам организм – печень, почки, кишечник или сердце – не играет никакой роли в творческом процессе. Так что не лги мне, педик несчастный!
– Гм. Я вижу, вы настроены на оскорбительный тон. Просто так говорится – сердце. На самом деле сердце как орган тут совершенно ни при чем.
Имеется в виду сердце как символ души. А с физиологической точки зрения, творчество, конечно же, идет от мозга.
– Какой именно его части?
– Понятия не имею.
– Продолжайте.
Уолдман услышал топот ног и решил, что это танец. Затем раздались аплодисменты.
– Скульптура – вот наивысшее воплощение искусства.
– Больше похоже на детородный орган. – Тот же ровный, сухой голос.
– Это тоже произведение искусства. Вы бы поняли это, если бы вам довелось поближе с ним познакомиться. – Хихиканье. Говорил гомосексуалист.
Дальше шли едва различимые просьбы передать папироску, очевидно, с гашишем.
– Ну, вот вы и получили, чего хотели. – Это сказал гомик.
– Что именно я получил? – Монотонный голос.
– Различные виды творчества. Пение. Танец. Рисунок. Скульптуру. Может, хотите сами попробовать, мистер Ригал? Что бы вы хотели изобразить? Только вам следует помнить, что творчество предполагает самобытность. Самобытность и есть основная черта настоящего творчества. Ну, давайте, мистер Ригал. Сотворите что-то свое!
– Но не скульптуру, не танец, не рисунок и не песню?
– О, это было бы восхитительно! – Голубой.
– Я не знаю, что сделать. – Бесстрастный голос.
– Давайте, я вам помогу. Часто творчество начинается с подражания уже созданному, только в несколько измененном виде. Вы творите путем подражания, только иными средствами. Например, преобразовываете рисунок в скульптуру. Или наоборот. Посмотрите вокруг, найдите что-нибудь интересное и воплотите это иными средствами выражения.
Неожиданно раздались крики, звуки разрываемой плоти, треск ломаемых костей и суставов, словно взрывались воздушные шарики, залетевшие слишком высоко в небо. Затем послышались дикие, отчаянные вопли певицы.
– Нет, нет! – Это было завывание, мольба, оставшаяся без ответа. Крак!
Жах! – и крики смолкли. От стены с хрустом отделился кусок штукатурки и упал на пол. Послышался всплеск. Должно быть, он попал в лужу крови. Еще кусок штукатурки, за ним – всплеск.
– Прекрасно.
Говорил все тот же ровный голос. На этот раз он эхом прокатился по комнате, потом захлопнулась входная дверь.
Инспектор Уолдман перемотал пленку до того места, где начались крики, и снова включил магнитофон, на этот раз засекая время. Полторы минуты.
Все это сделал один человек, и всего за восемьдесят пять секунд.
Уолдман снова перемотал кассету и снова прослушал ее. Скорее всего, убийца был один. На магнитофоне были записаны голоса четырех жертв – они обращались к единственному гостю. Уолдман вслушался в запись. Казалось, работали электроинструменты, хотя звука моторов слышно не было. Восемьдесят пять секунд!
Уолдман попытался встать на ноги, но его повело. Он слишком долге просидел на корточках для своих пятидесяти лет. Старею, подумал он. В подвал вошел молодой патрульный с радостной приветливой улыбкой.
– В чем дело? – спросил Уолдман.
Лицо патрульного показалось ему знакомым. Тогда он взглянул на полицейский значок. Так и есть. Он, должно быть, позировал для плаката, рекламирующего службу в полиции. Вылитый полицейский с плаката, вплоть до этой лучезарной улыбки. Но полицейский значок был ненастоящий. Дело в том, что художник, нанятый по контракту полицейским управлением, выразил свое пренебрежение к профессии, снабдив красавца с плаката значком, номера которого никогда не существовало.
На значке патрульного, который так сладко улыбался инспектору, значился именно этот номер.
– Кто вы?
– Патрульный Джилбис, сэр. – Тот же ровный, монотонный голос, что и на кассете.
– Отлично, – произнес Уолдман ласково. – Очень хорошо.
– Я узнал, что вы отправились на место преступления.
– Да, – ответил инспектор. Надо отвлечь подозреваемого, затем как бы невзначай отвести его в управление, а там наставить на него пистолет.
Уолдман попытался припомнить, когда он в последний раз чистил оружие.
Полтора года назад. Ничего. Полицейскому револьверу все ни почем.
– Меня интересует, что вы хотели сказать, назвав место преступления кошмарной сценой. Так написали газеты. Вы не упомянули элемент творчества. Как по-вашему, было ли это творческим актом?
– Конечно, конечно. Я в жизни не видел ничего более творческого. Все ребята в управления восприняли это как замечательное произведение искусства. Знаете что, нам лучше поехать и обсудить это всем вместе.
– Не знаю, отдаете ли вы себе отчет в том, что ваш голос звучит прерывисто. Это верный признак того, что вы лжете. Зачем ты лжешь мне, приятель?
– Кто это лжет? Я лгу? Это действительно было настоящим творчеством!
– Сейчас ты скажешь мне правду. От боли люди всегда говорят правду, – заявил самозваный патрульный с приветливой улыбкой и непотребным значком с плаката, призывающего поступать на службу в полицию.
Уолдман отступил, схватившись за револьвер, но патрульный вдруг впился ему в глаза. Инспектор не мог пошевелиться и сквозь красную пелену нестерпимой боли сказал всю правду. Это был самый далекий от творчества кошмар, какой ему доводилось видеть.