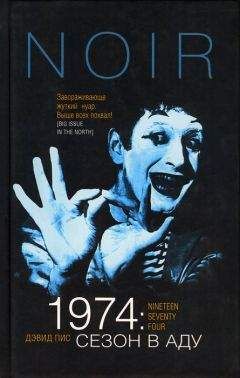— Не здесь, — сказала Пола, нежно взяла меня за правую кисть и повела наверх по крутой-прекрутой лестнице.
Наверху были три двери: две закрыты, одна приоткрыта — в ванную. Две пластмассовые таблички: Мамочкина и Папочкина комната и Комната Жанетт.
Мы ввалились в Мамочкину и Папочкину комнату, Пола целовала меня все сильнее и сильнее, говорила все быстрее и быстрее.
— Ты переживаешь, ты веришь. Ты не представляешь, как много это для меня значит. Обо мне уже так давно никто не переживал.
Мы оказались на кровати; от света с лестничной площадки на шкафу и туалетном столике лежали теплые тени.
— Ты знаешь, как часто я просыпаюсь и думаю: мне надо готовить Жанетт завтрак, надо ее будить?
Я был сверху, отвечал поцелуями на поцелуи. Звук туфлей, упавших на пол.
— Я просто хочу засыпать и просыпаться, как все нормальные люди.
Она села и сняла свою желто-зелено-коричневую полосатую кофту. Я попытался облокотиться на правую руку, теребя левой маленькие пуговки-цветочки на ее блузке.
— Понимаешь, раньше мне было очень важно, чтобы никто никогда не забыл ее, чтобы никто никогда не говорил о ней, как о мертвой, в прошедшем времени.
Моя левая рука расстегивала молнию ее юбки, ее рука была на моей ширинке.
— Понимаешь, мы с Джефом не были счастливы. Но когда у нас появилась Жанетт, все это как будто приобрело смысл.
Во рту у меня был вкус соленой воды, ее слез и мощного, непрекращающегося ливня слов.
— Но уже тогда, когда она была совсем крохотной, я иногда лежала по ночам и думала, что я буду делать, если с ней что-то случиться; я видела ее мертвой, лежала без сна и видела ее мертвой.
Она слишком крепко сжимала мой член, моя рука была у нее в трусах.
— Чаще всего мне виделось, что она попала под машину или под грузовик, что она лежит на дороге в своем маленьком красном пальтишке.
Я целовал ее грудь, спускался по животу, бежал от ее слов и поцелуев вниз, к ней между ног.
— Но иногда я видела ее задушенной, изнасилованной и убитой. Я бежала к ней в комнату, будила ее и обнимала, обнимала, обнимала.
Ее пальцы путались в моих волосах, сдирали болячки, моя кровь была у нее под ногтями.
— И когда она не пришла домой, все эти кошмары, которые я себе представляла, весь этот ужас, все — сбылось.
Моя рука горела, ее голос — белый шум.
— Все сбылось.
Я — жесткий быстрый член в ее мертвой комнате.
Она — крики и шепот в темноте.
— Мы хороним своих мертвецов заживо.
Я тянул ее за сосок.
— Под камнями, под травой.
Кусал мочку ее уха.
— Мы слышим их каждый день.
Сосал ее нижнюю губу.
— Они говорят с нами.
Сжимал ее бедра.
— Они спрашивают нас: почему? почему? почему?
Я — все быстрее и быстрее.
— Я слышу ее каждый день.
Быстрее.
— Она спрашивает: почему?
Быстрее.
— Почему?
Сухая болезненная кожа на сухой болезненной коже.
— Почему?
Я думал о Мэри Голдторп, о ее шелковых трусах и чулках.
— Она стучит в эту дверь и хочет знать почему.
Быстрее.
— Она хочет знать почему.
Мой сухой край о ее сухой край.
— Я слышу, как она говорит: «Мамочка, почему?»
Я думал о Мэнди Уаймер, о ее задравшейся деревенской юбке.
— Почему?
Быстро.
Сухо.
В голове — другой Гарланд.
Конец.
— Я больше не могу одна.
Чувствуя свой сухой раздраженный член, я слушал, как она говорила сквозь темноту.
— Они отобрали ее у меня. А потом Джеф, он…
Лежа с открытыми глазами, я думал о двуствольных винтовках, о Джефе Гарланде, Грэме Голдторпе, о чертовом круговороте.
— Он был трус.
Фары проезжающей мимо машины проволокли по потолку тени. Интересно, Джеф выбил себе мозги здесь, в этом доме, в этой комнате, или где-то в другом месте?
— Все равно кольцо всегда болталось на пальце.
Я лежал в постели вдовы и матери и думал о Кэтрин Тейлор. Я зажмурил глаза, как будто меня здесь не было.
— А теперь вот Джонни.
Я насчитал только две спальни и ванную. Интересно, где спал брат Полы Гарланд? Джонни спал в спальне Жанетт?
— Я не могу так больше жить.
Я нежно гладил свою правую руку, ее шепот плескался вокруг меня, качая на краю сна.
Была ночь перед Рождеством. В темном лесу стоял новый бревенчатый сруб, в его окнах горели желтые свечи. Я шел по лесу, под ногами был легкий снег. Я шел домой. На крыльце я отряхнул ботинки от снега и открыл тяжелую деревянную дверь. В очаге горел огонь, и комната была наполнена ароматом домашней стряпни. Под идеальной новогодней елкой лежали красиво упакованные коробки с подарками. Я вошел в спальню и увидел ее. Она лежала под рукодельным лоскутным покрывалом, ее золотые волосы разметались по клетчатым подушкам, глаза ее были закрыты. Я сел на край кровати, расстегнул свою одежду, тихо скользнул под одеяло и прижался к ней. Она была холодной и мокрой. Я попытался нащупать ее руки и ноги. Я сел в кровати и откинул покрывало и одеяла — все было красным. Только голова и грудь, распоротая по швам. Ни рук ни ног не было. Я прощупал одеяла. Ее сердце с тупым стуком упало на пол. Я поднял его своей перебинтованной рукой. Пыль и перья прилипли к крови. Я прижал грязное сердце к ее груди, гладя ее золотые локоны. Волосы остались у меня в руке, отстав от ее головы. Я лежал на кровати, весь в крови и перьях, в ночь перед Рождеством, и тут кто-то постучался в дверь.
— Что это было? — Сна ни в одном глазу.
Пола Гарланд вставала с кровати.
— Телефон.
Она взяла свою желто-зелено-коричневую кофту, надела ее на ходу и спустилась вниз, сверкая голой задницей. Цвета эти ей совсем не шли.
Я лежал в постели, слушая, как под крышей шебуршали мыши или птицы.
Минуты через две я сел в кровати, потом встал, оделся и спустился вниз.
Миссис Пола Гарланд сидела в бежевом кожаном кресле, качаясь взад-вперед и сжимая в руках школьную фотографию Жанетт.
— Что такое? Что случилось?
— Звонил наш Пол…
— Что? Что произошло? — Я думал: черт, черт, черт. Перед глазами — разбитые машины и окровавленые лобовые стекла.
— Полиция…
Я упал на колени, тряся ее:
— Что?
— Они его поймали.
— Кого? Пола?
— Какого-то мальчишку из Фитцвильяма.
— Что?
— Они говорят, что это сделал он.
— Что сделал?
— Они говорят, что он убил Клер Кемплей и…
— И что?
— Он сказал, что он убил и других.
Внезапно все стало красным, ослепляюще-кровавым.
Она продолжала:
— Он сказал, что он убил Жанетт.
— Жанетт?
Ее рот и глаза были открыты, но ни звука, ни слез не было.
Я бегом поднялся на второй этаж. Рука горела.
Обратно вниз по ступенькам с туфлями в одной руке.
— Ты куда?
— В офис.
— Пожалуйста, не уходи.
— Я должен.
— Я не могу остаться одна.
— Мне надо идти.
— Возвращайся.
— Конечно.
— Клянешься сердцем и жизнью?
— Клянусь сердцем и жизнью.
22:00, среда, 18 декабря 1974 года.
Шоссе — гладкое, черное, мокрое.
Одна рука на руле, весь вес на педали, ледяной ветер с визгом пронизывает «виву» насквозь, все мысли — о Джеймсе Ашворте.
Понимаете, они думали, что это сделал он.
Я бросил взгляд в зеркало заднего обзора: на шоссе никого, кроме грузовиков, любовников и Джимми Джеймса Ашворта.
Мам, заткнись!
Я съехал с главной дороги у цыганского табора — черное на черном скрывало потери — тряся правой рукой, пытаясь ее отогреть, думая о Джимми Джеймсе Ашворте.
Джимми, а почему они думали, что это сделал ты?
Через рождественские гирлянды в центре Лидса, составляя в голове текст статьи, думая о Джимми Джеймсе Ашворте.
Вот у них и спросите.
Здание «Йоркшир пост», желтые огни на десяти этажах. Я припарковался внизу, улыбаясь и думая о Джимми Джеймсе Ашворте.
Ты умный парень, Джимми.
Большая елка в фойе, на двойных стеклянных дверях — белой аэрозольной краской: С НОВЫМ ГОДОМ! Я вызвал лифт, думая о Джимми Джеймсе Ашворте.
Держишь рот на замке.
Двери лифта открылись. Я вошел и нажал кнопку десятого этажа. Сердце колотилось, я думал о Джимми Джеймсе Ашворте.
Он — хороший мальчик, мистер Данфорд. Он ничего плохого не сделал.
Двери лифта открылись на десятом этаже. В офисе бурлила жизнь, везде стоял гул. На каждом лице — крупными буквами: ПОПАЛСЯ!
Я стиснул левой рукой карманный диктофон «Филипс», думая о Джимми Джеймсе Ашворте, благодаря Джимми Джеймсу Ашворту.
Что вы собираетесь о нем написать?