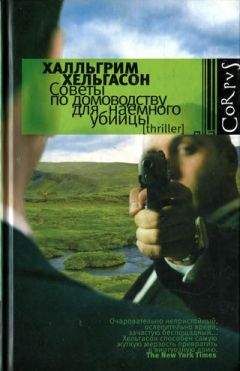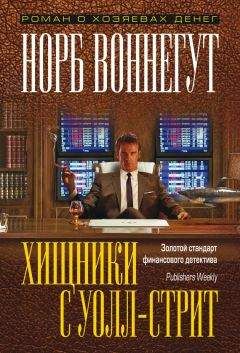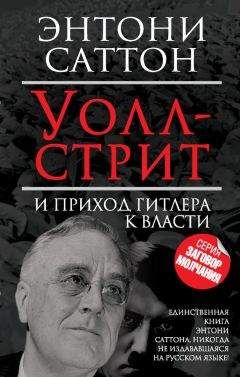— Эй! Томми! Скажи собаке, чтобы он выкинул мусор.
Владелец столовой, Сэмми, дружок Гудмундура, коротышка с брюшком и вспухшим лбом, беспрестанно жует жвачку, как корова сено, так что очочки на кончике носа танцуют с утра до вечера. На лице победительная улыбка человека, возродившегося в вере пять раз и знающего, что это не предел, улыбка, говорящая о том, что его жизнь, конечно, в руках Господа, но даже если она выпадет из этих рук, он, Сэмми, ее поднимет. Я узнаю, что Сэмми и Оли вместе мотали срок. Первый украл картины, а второй совершил непредумышленное убийство первой степени. Преступление по страсти, совершенное мясницким ножом, объясняет мне шеф и тычет в мою сторону орудием, коим нарезает мясо для завтрашнего гуляша.
— Этот гад трахал мою девушку. Если б я его не убил, она бы меня бросила, как пить дать. — Они по сей день вместе, а зовут ее Гарпа. — Что может сравниться с любовью женщины, из-за которой ты убил человека?
Мне есть над чем подумать.
После этой истории Оли вырастает в моих глазах. Наконец-то я встретил настоящего мужчину в этой стране слабаков. Я расспрашиваю его о семи годах в заключении. Интересуюсь, не насиловали ли его в душевой. Нет, отвечает. Исландская тюрьма больше напоминает американский кампус: бесконечный футбол по телевизору и любые наркотики, о каких только можно мечтать.
— Исландская тюрьма пользуется большой популярностью у иностранцев. Мафиози из Литвы специально приезжают, чтобы их здесь посадили. Для них это что-то вроде курорта.
Как можно не влюбиться в эту страну!
— А тот, кого ты убил? Ты думал о нем в тюрьме?
— Нет. Не особенно. Это было приятное убийство. После него я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Он получил по заслугам. Иной раз думаю: „Эх, был бы он живой, я б его снова прихлопнул!“
— Но ведь семь лет… Тоска, наверно?
— Ну да, есть немного. Но я ведь изучал поваренное дело и французский… А с Гарпой у нас было вообще лучше не придумаешь. Сам посуди, не надо было выслушивать ее глупости, ходить с ней по магазинам или проведывать ее мамашу. Я только снимал сливки. Нет ничего лучше, чем секс в тюрьме, парень, — говорит он с ледяной улыбкой, выбрасывая бычок на мокрую автостоянку, откуда видны унылые промышленные кварталы, а также зеленый Рейкьявик.
— А кого-нибудь застрелить тебе не приходилось? — спрашиваю.
— Из пистолета? Нет. Убивать из огнестрельного оружия — все равно что заниматься любовью с мышкой, — говорит он, снова вооружаясь липким тесаком. — Компьютерной мышкой.
Мои святые покровители, сладкая парочка, известная здесь как „Гуд и Торчер“, не перестают меня восхищать. Интересные у них связи. Вчера Балатов мне рассказал, что Гуд-Ни отсидел в норвежской тюрьме за наркоторговлю. Его поймали, когда он выуживал какую-то контрабанду на Лофотенских островах.
Если изобразить общество в виде круга, наверху окажутся члены приходского совета и велосипедисты (все те, кто никогда не пересекает улицу на красный свет, зато готовы вылизывать телеэкран каждый раз, когда там появляется придурочный Тони Сопрано[58]). Справа мы увидим добрых старых оруженосцев, предпочитающих поколачивать своих жен, вместо того чтобы с ними спать. Слева расположатся антиглобалисты, вся эта обозленная свора, выступающая против всего хорошего на этом свете: мяса, порно и глобального потепления. А я окажусь в самом низу, там, где встречаются правые экстремисты с левыми радикалами. Там, где святые и женщины сидят бок о бок с убийцами и ворами от искусства.
А замыкается круг здесь. В кухне для бедняков. Два мира сходятся на острие мясницкого ножа Оли.
Это моя первая „честная“ работа, с тех пор как я недолго подвизался в роли „подай-принеси“, и я о ней нисколько не жалею. Приятно ни о чем не думать. Мытье пластиковых подносов — мой способ медитации. Прежде всего, я очищаю их от объедков (нуждающиеся Исландии, кажется, не очень-то нуждаются), затем смываю остатки струей воды и ставлю в допотопную посудомоечную машину, про которую Сэмми, проходя мимо, всякий раз спрашивает: „Как она сегодня?“ — как будто речь идет о старой больной матери.
Порой Оли подвозит меня до „дома“, проносясь мимо остановки, на которой „собака“ вместе с местными недоумками дожидаются автобуса. А однажды его знаменитая герлфренд подбросила меня на своем белом „поло“. От Гарпы, классической сливочной блондинки с фальшивым загаром и племенными тату на руке, я узнаю, что ее имя на исландском означает „арфа“. Хотя „флейта“ больше подошла бы к ее длинной шее и крупному заду. Если приглядеться, в ней есть шарм. Пожалуй, на десятый или одиннадцатый день я мог бы ради нее кого-нибудь пришить.
А вообще в этом что-то есть — каждый день возвращаться с работы, никого не убив. Конечно, мой сон в бывшем складе не так уж и сладок, но по крайней мере я перестал пополнять список трупов.
В барак я обычно прихожу в пять-шесть вечера, с остатками столовского обеда, которые я разогреваю в доисторической микроволновке и съедаю на кухне, улучив момент, когда рядом нет Балатова. Приходится жить с оглядкой на скромный бюджет. Оли довольно прилично готовит, а мысль о том, что шеф-повар — отсидевший убийца, который ловит кайф от разделки мяса, добавляет еде пикантность. Только начав зарабатывать на жизнь честным трудом, я осознал, что Исландия — самая дорогая страна мира. Счет за обед на одного — цена холодильника. Полкило сыра стоит как такая же упаковка „травки“. Многие иностранцы едят исключительно просроченные продукты, которые в супермаркетах оставляют на заднем крыльце в конце дня. Однажды Ган рассказала мне про немецкого туриста: когда он увидел счет за два коктейля в модном ресторане, у него случился микроинфаркт.
На что я ей сказал: „лучшая страна в мире“ не должна ничем отличаться от лучших ночных клубов. Она обязана быть самой дорогой.
Моя терапия не предполагает ночных отлучек. И никаких книг, кроме Святого Писания, не говоря уже о всяких DVD или интернете. Так что, если не считать афористичных стихов Балатова в эбонитовых тонах („Я видеть Опру в душе. Хорошо“), моим единственным развлечением является Библия. Признаться, я никогда не был заядлым книжником, хотя и прочел два-три романа, когда мы с Диканом совершали тур по Штатам, отмечаясь заказным убийством на каждой остановке. Невозможно же целый день в отеле развлекаться с девочками по вызову.
Вот я и провожу долгие белые ночи с большой черной книгой.
Конечно, есть на кухне портативный телевизор, но программы все местные — после того как очередная сливочно-блондинистая куколка прочитывает городские новости, какой-нибудь американский кретин начинает поедать живых личинок, — а кроме того, они монополизированы Балатовым, который не столько смотрит передачи, сколько охраняет „ящик“ так, словно это священный Грааль. Он материт каждый субтитр, появляющийся на экране, и при этом скребет подмышки, источающие убийственные запахи. (Если он и вправду работает на федералов, то такой блестящей маскировки ФБР еще не знало. Это вам не Майклы Китоны с их причесонами.)
Мне приходится продираться сквозь этот чертов Ветхий Завет. Да, там есть завлекательные истории и все такое, но в основном это произраильская фигня о племенных разборках и пограничных конфликтах. О том, как мистер такой-то изгнал такого-то палестинца или филистимлянина из его пределов. Вроде телевизионных новостей, какими нас кормят ежедневно. Эти ребята недалеко ушли от Ветхого Завета. НЗ бы почитали, что ли. Против самого Иисуса я ничего не имею, хотя идея, что он взял на себя наши грехи, кажется мне сомнительной. Очень уж это простенькое решение. К тому же он производит впечатление занятого человека. Приди в церковь и оставь узелок со своими художествами у алтаря. А может, в этом и есть сермяжная правда? Церковь как контейнер для переработки отходов. Прям как в нашем „Загребском самоваре“. Там есть такой Томислав по кличке Чистильщик, который приходит, если надо, и подчищает человеческие грешки.
По-моему, Господь совершил большую ошибку, показав свое лицо, или длань, или что он там показал Моисею на вершине горы. В тот день он выписал плохой чек роду человеческому. Десять тысяч лет сплошных неприятностей.
Вспоминается пьеса, которую я видел однажды в Сплите. Сенка, завзятая театралка, таскала меня на всякие безумные спектакли. И вот смотрим мы польскую пьесу, автор сидит на сцене и в течение всего действия громко командует актерами. По-моему, тогда мне в первый раз захотелось кого-то убить.
После того как занавес подняли — всё, в пьесе ничего менять нельзя. То же самое относится и к Господу Богу.
Никогда не думал, что чтение Библии способно вызвать ярость. А может, так и должно быть. Особенно если тебе ее подсунул Торчер. Бог — он как алкоголь. Чем дальше заходишь, тем сильнее сомнения: а хороша ли была сама идея? Чем религиознее страна, тем скорее она ввяжется в войну. Вот в Исландию Бог сроду не заглядывал. По словам Оли, Бог непричастен к ее созданию. Она появилась позже. Не удивительно, что это самая мирная страна на свете.