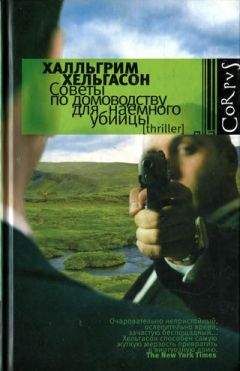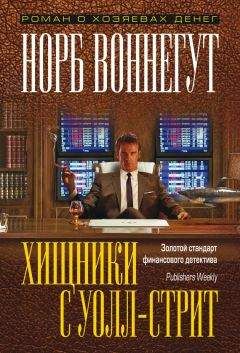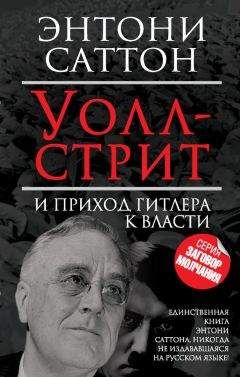— Но отчего вас так мало? У вас же никогда не было войн.
— Говорят, что наша война — это холод. Лед может быть таким же смертельным, как огонь.
Объяснения малочисленности исландской нации коренятся в нашем прошлом, продолжает она, рисуя в воздухе автографы сигаретным дымом. Извержения вулкана, чума и убийственно холодные зимы едва не сделали эту землю необитаемой. Только после появления электричества и центрального отопления дела изландцев пошли на поправку. За последние пятьдесят лет их население увеличилось на сто пятьдесят тысяч. Примерно столько погибло в нашей войне. Мы могли бы решить балканскую проблему, отослав их всех в Исландию, где бы запросто поместились десять, даже двадцать миллионов человек. Нет, столько наша страна не впустила бы, отрезает Гуннхильдур. И вашему покорному киллеру остается только низко поклониться своим новообретенным соотечественникам, которые предпочитают смотреть, как где-то погибают люди, но не позволят им разбить палатки на своих лужайках.
Мы говорим о войне, пока Ган дымит сигаретой. Она спрашивает меня про моего брата Дарио просмоленно-обволакивающим голосом:
— Сколько ему было, когда он погиб?
— Двадцать три. Он был на три года старше меня.
— Надо же. Как он выглядел? Он был похож на тебя?
— Нет. Он был настоящий герой. Любимый сын. Атлетичный, такой греческий бог, занимался спортом и… Он входил в нашу национальную команду шестовиков.
— Что это такое?
— Прыжки с шестом. Ты Сергея Бубку знаешь?
— Нет.
— Не знаешь? Величайший спортсмен всех времен. Украинец. Завоевал в Сеуле золотую медаль. Дарио с ним какое-то время вместе тренировался. Бубка был его кумиром. И вот ведь как вышло: в тот вечер, когда убили Дарио, Бубка установил мировой рекорд. Двенадцатый по счету, кажется. Шесть метров восемь сантиметров. Где-то в России. Мой брат как будто ему помог, подбросив повыше. Такой вот прыжок души с шестом.
Блин. Не слишком ли ты сентиментален с холодной барышней?
— Надо же. А твой брат выступал на Олимпийских играх?
— Нет. Он выступил бы в Атланте в девяносто шестом, если бы не…
Я открываю глаза пошире. Чтобы дать им таким образом просохнуть. Надеюсь, она ничего не заметила? Нет. Ее больше занимают колечки дыма, отрывающиеся от ее божественных губ.
— Надо же. Так он был… настоящей звездой?
— Как сказать… В Хорватии прыжки с шестом не пользуются большой популярностью. Скорее, он был звездой по стрельбе в противника.
О покойном брате я всегда рассказываю с неуклюжестью какой-нибудь безмозглой старушенции. Поэтому стараюсь помалкивать.
— Для тебя, наверное, это был большой удар…
— Ты удивишься. Смерть брата подействовала на меня как болеутоляющее, после того как я убил отца… нашего отца…
— Как это? Почему?
— Это как случайно поджечь собственный дом, в этом есть что-то умиротворяющее… или уморотворяющее… Как правильно?
— Наверно… все-таки умиро…
— Короче, на душе не так погано, если в это время соседский дом тоже горит.
— Но разве родной брат тебе не ближе, чем чей-то дурацкий дом?
— Ну, ясно. Или скажем так: то, что произошло с отцом, смягчило удар от смерти брата. Нельзя пережить два ССМ одновременно.
— ССМ?
— Самый Страшный Момент.
— Ага. Значит, после твоего жуткого дорожного инцидента убийство твоей герлфренд показалось тебе уже не таким ужасным?
— Ну да. Вот когда ты меня отвергла как священника… это было ужасно.
Она с улыбкой роняет:
— Но потом я узнала, что ты серийный убийца, и сразу в тебя влюбилась.
Она хохочет. Я удерживаю это слово в мозгу, как старик удерживает новорожденного щенка в своих больших ладонях.
— Ты больная, — говорю.
— Да. На любовной почве. — Она гасит бычок в полупустой бутылке из-под „Гаторейда“, стоящей на полу возле кушетки, и обхватывает мое лицо. Я отвечаю своей кривой ухмылочкой. Она сует указательный палец мне в рот, нащупывая им дырку. Око за око, палец за зуб. Подержав его там в свое удовольствие, она вытаскивает палец и запечатывает мне рот поцелуем.
Так островитянка целует уродливого матроса, выброшенного на берег волной после кораблекрушения. Он весь в порезах и синяках, просоленное лицо красно от солнечных ожогов, тело обмякло, один большой кусок мяса, язык почти не ворочается. Вся надежда на спасительницу.
А в голове моей Джон Леннон голосит старую битловскую песню. Про горячий ствол. Happiness Is A Warm Gun.
Глава 28. Клумба из роз, постель из мха
Согласно распространенному мнению, исландское лето длится не больше полутора месяцев. С последней недели июня по первую неделю августа. Житейская мудрость гласит: как раз столько времени требуется на то, чтобы влюбиться. Да вот беда: весь этот период ледяная страна освещена не хуже, чем арена Мэдисон-сквер-гарден во время матча „Никс“. Ни тени, ни темного уголка. Не то что поцелуй — машину не спрячешь.
Мы решили, что Ган в наш отель больше приходить не стоит. Лучше ее предкам ничего не знать, пока мы сами не определимся с датой. Работяги севен-илевен не проблема, другое дело Балатов и, уж точно, Гуд-Ни. Но моя гениальная подружка нашла выход. Одна из ее приятельниц работает в „Махабхарате“, индийском мебельном салоне напротив. Все, что мне надо сделать, — это выскользнуть из нашего отеля около полуночи, прогуляться по пустынной парковке, а заодно поздороваться с чайками, отвечающими за ее чистоту, и остановиться у черного хода в индийский салон, где меня будет ждать Ган в своей маленькой красной „фабии“ после массажного класса или гулянки с тарантиновским фан-клубом. У нее есть запасной ключ, и ей известен код постоянно мигающего приспособления возле двери. Если пройти через офис, то мы окажемся в салоне. У задней стены стоят три демонстрационные двуспальные кровати, сработанные двенадцатилетними индийскими умельцами. Мы опробовали все три, но та, что в комнате „Камасутра“, за декоративной перегородкой, оказалась самой безопасной. Ее точно не видно через ярко освещенное витринное окно. Так что в конце концов нам удалось найти полутемный угол в вечно сияющем краю. Скрип этого королевского ложа ручной работы я посвятил памяти моей утраченной возлюбленной. Кстати, кровать выдержала все чудеса эквилибристики. Эти индийские ребята в своем деле знают толк.
Наши ночи в „Махабхарате“ можно считать триумфом глобализации. Хорват празднует свое индийское лето[61] в Исландии под французское шампанское, японское суши и расслабляющую тайскую музыку. (Все это, включая музыку из массажного класса, Ган приносит с собой.) Презервативы английские, из Манчестера, а сигареты американские, из Ричмонда, Вирджиния, родного города нашего отца Френдли. В салоне моя подружка не курит. Мы также стараемся не оставлять после себя пятен и лифчиков.
Мало-помалу Ган удается вытеснить Муниту (вместе с головой) из моих мозгов и отделать их на собственный манер. Индийскими ковриками и уютными бра. И мало-помалу наше лето сексуальных утех превращается в нечто большее. Скрытность дает им дополнительное измерение. Я изо всех сил стараюсь растопить лед, и от ее новых постельных навыков моя кровь быстро превращается в кипящую лаву. Я хоть сейчас готов лечь в исландскую землю, и на моем надгробии напишут: Томми Олавс, мойщик посуды (1971–2007). После очередных наших кувырканий Ган опрыскивает постель каким-то индийским спреем, который она нашла в офисе. К исходу месяца в демонстрационной комнате пахнет, как в лучшем борделе города Бомбея.
— Все нормально, — заверяет меня Ган. — Все равно летом никто не покупает кровати.
— Почему?
— Все активно эксплуатируют старые.
Судя по всему, в светлый сезон исландцы становятся другими людьми. Они прекращают делать то, чем занимались всю зиму. Например, смотреть телевизор, продуманно одеваться и каждый день принимать душ. До недавних пор в июле у них даже прекращали телевещание. Лето такое короткое, что всем надо сосредоточиться. Если температура поднимается до пятнадцати градусов по Цельсию (такое случается три раза в год), через пару минут все магазины и банки закрываются, чтобы дать своим служащим возможность выйти на улицу и понаслаждаться тепловой волной. Мы называем это „солнечный перерыв“, объясняет мне Ган. Ну как им не посочувствовать. Эти полтора месяца не называются „летом“ ни в каком другом словаре, кроме исландского. Так что „Страна десяти градусов“ — это вовсе не шутка. Такова средняя июльская температура. Исландское лето — это на полтора месяца открытый холодильник. Режим 24/7, весь лед растаял, и все же есть некое ощущение прохлады — как-никак холодильник.
Но вот в начале августа, в субботу, из мебельного салона вдруг исчезают все кровати. Ган звонит приятельнице. Та объясняет: готовимся к осенней экспозиции. Новая партия под названием „Сладкая карма“, изготовленная на примитивной бомбейской фабрике, должна вот-вот прибыть. В результате, в обход торчеровских правил, Ган увозит меня за город.