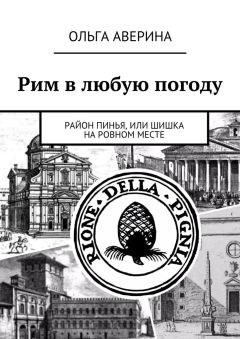Над городом поднимался рассвет. Полоска неба на востоке быстро светлела, постепенно из бледно-серой превращаясь в розовую. Из предутренних сумерек проступади темные громады недостроенных домов. Где-то там, в бесконечных пещерах вон того крайнего дома, моя единственная свидетельница Наташа, неожиданно подумал Касьянин и даже сам удивился своей мысли — оказывается, он помнил о ней, оказывается, в чем-то еще на нее надеялся. Хотя сейчас, после ночного наезда, ее лепет о том, что двое из темноты побежали к поджидавшей их машине... Чепуха все это.
Касьянин зябко поежился, ощутив холод. Он беспомощно оглянулся — в доме на балконе не было ничего, что могло бы послужить хоть каким-то оружием, хоть как-то помогло бы отбиться от парней Евладова, если те решат снова навестить его. На балконе он нашел несколько автомобильных ключей — когда-то у Касьянина была машина, но он благополучно разбил ее года два назад. У самой стены лежал проржавевший гвоздодер, тут же стояли несколько надколотых стекол, которые Касьянин никак не решался выбросить. В самом углу он нашел прикрытый тряпьем алюминиевый бидон. Заглянув в него, Касьянин уловил запах бензина. Этот бидон тоже остался с тех времен, когда у него была машина. Канистры после аварии он роздал соседям, а вот бидон, на треть наполненный бензином, так и остался. Касьянин закрыл крышку, набросил на бидон тряпки и задвинул на прежнее место, в самый угол, чтобы никто не споткнулся о него, не опрокинул.
Полоска света над лесом стала совсем розовой, потом красноватой, и этот ее цвет снова вернул Касьянина к мыслям о бидоне в углу. Он оглянулся на него, прикидывая что-то, полюбовался небом, снова обернулся к бидону.
— Так, — пробормотал он негромко. — Так...
Касьянин и сам не замечал, как постепенно происходили в нем незаметные, но необратимые превращения. В криминальной журналистике каждый божий день ему приходилось собирать сведения о совершенных за ночь преступлениях, убийствах, самоубийствах, пьяных разборках, кровавых семейных ссорах. Когда обо всем этом он вынужден был узнавать мельчайшие подробности, особенности, странности, и происходили в нем эти самые превращения. Описанные им события заполонили все клетки его мозга, сделав само мышление каким-то криминальным.
И сейчас вот, едва увидев бидон с бензином, едва вдохнув запах, Касьянин сразу подумал о том, что его можно использовать. Бензин — это тоже оружие, как и пистолет, гвоздодер или стальной тросик, намотанный на обрубок бревна. Все могло быть пущено в ход, могло или спасти его, или окончательно угробить. Касьянин полез в старый кухонный шкафчик, выставленный на балкон, и долго копался там, сам не зная, что ищет. Руки бесцельно перебирали шампуры, запыленные гантели, лыжные крепления, которые он свинтил, прежде чем выбросить лыжи, сломанные на крутых горках ближнего леса. И, наконец, под руки попала электрическая трехсотваттная лампочка, старая, запыленная, вдобавок еще и перегоревшая. Почему он не выбросил ее, что вынуждало его хранить эту перегоревшую лампочку с разболтанным цоколем? Касьянин осмотрел лампу со всех сторон, почему-то прикинул ее емкость. И решил, что в ней, по всей видимости, не менее литра.
Этот вывод понравился ему.
Покрутив ржавый цоколь, Касьянин сорвал его со стеклянной колбы. Потом нашел кривой гвоздь и сунул его в стеклянную дыру. Тонкая стеклянная трубочка уходила в глубь лампочки и заканчивалась проводками со спиралькой. Чуть надавив на гвоздь, Касьянин надломил трубочку и вынул ее из лампы.
Теперь в его руках была просто колба из тонкого стекла, которая могла расколоться при одном неосторожном движении.
— Так, — пробормотал Касьянин, удовлетворенно осматривая колбу. — Так, — повторил он и повернулся к стоявшему в углу бидону. И, наверное, только сейчас ему самому стал ясен собственный замысел.
На кухне он нашел небольшую воронку из желтой пластмассы и, вернувшись на балкон, осторожно наполнил колбу бензином, заткнул отверстие клочком газеты, стараясь поглубже протолкнуть бумажный комочек в трубочку. Найдя тюбик какого-то клея, Касьянин залил им газетный пыж.
Поставив стеклянную колбу с бензином в самую глубину шкафчика, Касьянин загородил ее старой кастрюлей.
— Авось, — пробормотал он про себя. — Авось сгодится.
— Мы готовы, — сказала Марина, едва Касьянин вошел с балкона в комнату. — Хоть сейчас. Хоть навсегда.
— Это хорошо, — Касьянин опустился в кресло, окинул взглядом комнату.
Словно прощаясь со всем, что здесь было, с той жизнью, которую здесь прожил.
Телевизор, диван, люстра, письменный стол, палас на полу... Все это пришлось покупать из последних сил, на последние деньги, часто не столько по необходимости, сколько из неугасающего желания Марины не отставать от соседей. — А что это ты с бензином затеял? — спросила Марина. — С собой хочешь бидончик прихватить?
— Да, — ответил Касьянин и не стал продолжать, хотя видел, как мучительно хочется Марине узнать смысл его возни на балконе.
— Ну, а все-таки? Мне можно это знать?
— Отчего же... Тебе все можно, дорогая. Бензин я вылил в колбу из-под электрической лампочки... И заткнул пробкой.
— Это я видела, а что дальше?
— Представляешь, снова приходит банда Евладова, я с широкой улыбкой открываю им дверь и тут же бросаю бензиновую бомбу им под ноги! Каково! — воскликнул Касьянин.
— Они, наверное, удивятся?
— Конечно! Потому что я тут же, вслед за бомбой, и спичку... Вся площадка превращается в сплошной огонь, бандиты кричат жалобными голосами от ужаса и боли, а я тем временем спасаю свою поганую жизнь. А если удастся, то и твою тоже.
— После этого ты наверняка никого не спасешь! — сказала Марина таким тоном, будто услышала оскорбление. — После такой хохмы они попросту растерзают тебя в клочья! Размажут по стене! Сделают из тебя аппетитный бифштекс с кровью!
— она выкрикивала эти слова почти с наслаждением, будто ей доставляло удовольствие представлять бедного Касьянина во всех этих ужасных подробностях.
— Может быть, — легко согласился Касьянин. — Наверное, ты права, дорогая.
Я и раньше замечал в тебе провидческие способности, ты можешь иногда заглянуть в будущее, можешь. Правда, редко пользуешься своим даром, но он в тебе явно наличествует, — закончил Касьянин канцелярским оборотом и добился своего — именно это словечко «наличествует» привело Марину чуть ли не в бешенство.
Касьянин проследил взглядом за порывистой, нервной походкой Марины, посторонился, подтянул под себя ноги, пропуская жену, когда она проносилась мимо с очередной тряпкой. По лицу ее он научился безошибочно различать раздраженность, недовольство им, Касьяниным. Причина могла быть какой угодно.
Например, то, что он даже внешне мало соответствует ее представлениям о хорошем муже. Ей не нравились его рубашки, его пиджаки, его стрижка. Поначалу он пытался войти в тот образ, который бы ее устроил, но потом оставил это, поняв, что занятие это бесполезное, в чем-то недостойное, если не унизительное. Или ты принимаешь меня таким, каков я есть, или не принимай вовсе, решил Касьянин.
Он смотрел на нее, проносящуюся мимо, откидываясь на спинку кресла, чтобы она не наткнулась на его голову, подтягивал ноги на сиденье, чтобы не споткнулась о них, чувствовал себя лишним, громоздким, неприятным для нее и прощался, прощался. Где-то в самой глубине его души светилось маленькое пятнышко, теплый греющий комочек — Марина уезжала, а он оставался. Может быть, он задержится на день, на два, может быть, уедет в тот же день или случится так, что он и на месяц останется в городе, но предстоит разлука, и он был ей рад.
До сих пор, на четвертом уже десятке, Марина продолжала что-то доказывать себе, ему, окружающим, продолжала утверждаться этим трижды проклятым паласом, этими шторами, шлепанцами, в ее недрах до сих пор происходили непрекращающиеся разборки, гремели автоматные очереди, взрывались гранаты, гусеницы танков рвали на части ненавистных соседей и подруг, она сжигала огнеметами чьи-то успехи, победы, удачи, собственными руками разрывала недоступные ей наряды, проклинала и ненавидела страны, где побывали ее знакомые, она изводила эти страны наводнениями и землетрясениями, заваливала их снегом, устраивала лесные пожары, плодила террористов. И все эти страсти продолжали кипеть в ней изо дня в день, хотя на поверхность проступало только недовольство им, мужем, Касьяни-ным Ильей Николасвичем. И все это он понимал.
Если попытаться определить, какое самое сильное чувство испытывал он в эти мгновения, то это был не ужас перед бандой Евладова, это была тихая, почти незаметная радость по поводу неизбежного отъезда Марины.
Касьянин осторожно посмотрел на настенные часы, и Марина тут же перехватила его взгляд.
— Не страдай, не страдай! — бросила она, проносясь мимо, и Касьянин понял, что жена знает о его состоянии. — Скоро, совсем скоро уедем, дорогой!