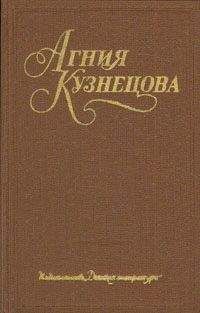Вниз мы спускались долго. На самом деле, это была шахта. Я никогда не был в шахтах, но представлял, благодаря телевизионному образованию, что это такое… Клеть, скрепя своими тросами, дергаясь и, чем-то щелкая, валилась вниз. Сквозь ее решетки проплывали, оставаясь вверху, затянутые грязными стеклами фонари.
Бригадир сидел на ящике, опершись подбородком о ствол автомата, и от скуки что-то напевал себе под нос. Бригада стояла рядом, — безучастная ко всему.
Еще одно бомбоубежище. Прямо, последнее время, напасть на эти бомбоубежища. Никуда от них не деться.
Но скоро, скоро…
Внизу нас ждал поезд. В нем было три игрушечных вагона без крыши, но в каждом из них были стены, а в них окна и дверцы. Поезд был выкрашен в приятный зеленый цвет, и в первом вагоне сиденья были кожаными.
Но нам предложили размещаться во втором, где сидеть пришлось на железных лавках.
Вокруг были всякие своды, на потолках горели домашние люстры. Пол, от лифта до поезда, был выложен мраморными плитами, и перрон тоже был весь мраморным.
Вообще, подземелье не производило мрачного впечатления, — от него несло каким-то маразмом… Люстры эти, мрамор, — и сырая природная чернота, уходящих в стороны тоннелей. Не того, куда шли рельсы поезда, — других.
Одно как-то не сочеталось с другим. Чувствовалось, поработала здесь мысль не специалиста по интерьерам, а чье-то воспаленное воображение. Это надо же, подвесить к каменному потолку пятирожковую квартирную люстру, металлические части которой, к тому же, начали ржаветь.
Но маразм этот все-таки обладал смыслом, словно бы творческое воображение некой обезьянки взялось выразить что-то, что существует на самом деле, и с чем оно знакомо, постаралось в меру своих сил и возможностей.
К нашему вагону подошел машинист, одетый, под цвет поезда, в зеленый спортивный костюм, они закурили с бригадиром, и машинист сказал нам:
— Ну что, мужики, последний бой, он трудный самый?
Он посмотрел на нас, этот парень моего примерно возраста, с оттенком какого-то сочувствия, чуть ли не с жалостью.
— Бедолаги, — сказал он бригадиру, — и надо было родиться для этого. Вот ведь судьба.
— Нагрешили много, — ответил бригадир.
— Это понятно, — сказал машинист, — но все равно — люди.
— Да ты взгляни на них… На людей этих.
Машинист взглянул, и встретился с моим трезвым взглядом.
Мне нечего было уже терять, и я чувствовал свою независимость от них. Холодная какая-то, грустная уверенность пришла ко мне, мне было и тошно, и радостно, — словно я, под печальные звуки «прощания славянки», готовился уплыть, на обшарпанном залатанном корабле, куда-то далеко, куда-то настолько далеко, что оттуда не было возврата. Или доплыву, или утону по дороге. И уже попрощался со всем, с чем можно было попрощаться. В прошлой жизни.
— Ты что, — спросил машинист, — не под кайфом?
— Не под кайфом, — сказал я ему.
Он кивнул, словно такого ответа и ожидал. Ни он, ни бригадир не обратили на мою дерзость никакого внимания, даже не заметили ее.
Машинист бросил на чистый мрамор бычок, наступил на него ногой, и сказал мне.
— Ну тогда, — поехали…
Поезд тронулся, и трясясь на неровностях рельсов, погрузился в тоннель. Ехал он чуть побыстрее скорости пешехода, но это было хорошо. Такая скорость не мешала грустить.
2
Творческое воображение обезьянки заканчивалось шлагбаумом. Разукрашенным черно-белыми полосами. Шлагбаум был на цепи и с противовесом, так что легко поднимался и легко возвращался обратно, в горизонтальное положение.
Дальше обезьянку не пускали. Дальше, под потолком тоннеля висело, сотканное из слегка светящегося сгустившегося воздуха, полотнище, на котором, горящими всеми цветами радуги буквами, красивым почерком, было написано: «Добро пожаловать!»
Ну, привет, — подумал я, — если не шутишь.
— Стройся, — сказал нам бригадир, — на инструктаж.
Нас кое-как выстроили в одну линию, и к строю вышел очередной начальник, должно быть, руководитель горняцкого процесса.
— Мужики, — сказал он, — задача простая. Каждый из вас получит ведро и небольшую лопатку. Нужно будет ходить со всем этим там, — махнул он рукой в сторону приветственной надписи, — и собирать в ведро все, что вы найдете. Как находитесь, возвращайтесь обратно… Среди вас опытный профессионал, он не даст соврать. Максимыч, я все правильно говорю?
Единственный из нас сторожил, стоял, смотрел прямо перед собой и ничего не отвечал.
— Максимыч подтверждает, все так и будет… Получайте инструмент, и вперед, на мины.
Мне тоже досталось синее пластмассовое ведро и небольшая лопатка, похожая на детскую, но все-таки железная.
Полосы на наших костюмах дорожных рабочих, под местным светом, светились бледно-белым, и мы, от этого, напоминали приведения.
— Первый, пошел, — сказал начальник, и шлагбаум приподнялся, пропуская Максимыча.
Ему, как ветерану, доверили открывать трудовую смену.
Прожектора ярко освещали часть тоннеля до поворота. Максимыч, привычно и не торопясь пошел по тоннелю, остановился недалеко от поворота и посмотрел себе под ноги. У него под ногами ничего не было, отсюда хорошо было видно, что там ничего не было, в том месте, куда он смотрел. Но он нагнулся, поднял что-то с земли, — и в этот момент стало видно, что у руках у него что-то есть, — положил это «что-то» в ведро, и так же, никуда не торопясь, пошел дальше. Повернул, и исчез за поворотом.
— Второй, пошел, — скомандовал начальник.
Как мы стояли в строю, в такой последовательности нас и отправляли на задание.
Второй пошел. Должно быть, он решил честным трудом и примерным поведением добиться сокращения срока, или просто работал на публику, — потому что тут же принялся пристально вглядываться себе под ноги, и двигался зигзагом, чтобы получше охватить всю поверхность тоннеля.
Но зигзаг быстро закончился. Он даже не успел дойти до поворота. Должно быть, надпись «Добро пожаловать!» его не касалась. Или наоборот, — непосредственно его и касалась.
Он как-то странно стал разделяться. Сначала замерли его ноги, а туловище, руки и голова продолжали двигаться дальше. Непривычно этак повиснув в воздухе. Потом туловище остановилось, а вперед устремились руки, с ведром в одной и лопаткой в другой, и голова. Потом остановились руки, и движение вперед продолжала одна голова, которая через какое-то время благополучно скрылась за поворотом. Так что ее участь осталась нам неизвестна.
В тоннеле стояли ноги, немного дальше висело в воздухе туловище, а еще чуть дальше, — точно таким же образом необъяснимо покачивались в вышине и руки. С ведром в одной и лопаткой другой.
— Чудеса! — воскликнул кто-то из молодых старателей. — Что-то мне туда не хочется!.. Что-то там не хорошо!..
— Тебя никто не спрашивает, хочешь ты туда или нет, — подал голос начальник процесса. — Умник!
Странно, но никто из старателей не испугался. Бригада восприняла происшедшее с философским равнодушием.
Это у меня глаза чуть не вылезли на лоб от изумления. Ничего подобного я никогда не видел. Представить не мог!.. Это похоже на цирк. На замечательный иллюзион. На превосходно организованное шоу.
Невероятно!
И это не была смерть. Или я не был специалистом по всякого рода умираниям.
Это была не смерть, — это была насмешка над смертью… Над теми, кто мог так про все про это подумать.
Какой потрясающий, на грани фола, юмор… Какой невероятный…
— Третий, — пошел!.. — скомандовал начальник. — Нечего здесь рассиживать, а то в штаны намочите.
Шлагбаум поднялся, третьего старателя, для верности, слегка подтолкнули в нужном направлении в спину. Четвертым был я.
Начальства вокруг было шесть человек: наш бригадир, машинист, кинооператор, который не отрывался от своей телекамеры на треноге, главный начальник, и двое его помощников, которые, должно быть, представляли грубую физическую силу.
Какая-то аура, сотканная из адреналина, возникла над ними. От вида разделившегося на части старателя, — у них возникло одно, общее на всех чувство. Сродни некому эротическому возбуждению, когда любовь, из интимного дела двоих, вдруг превращается в общее дело целого коллектива. Это был какой-то религиозно-сексуальный экстаз. То состояние, в которое они окунались.
— Пошел!.. — скомандовал начальник третьему, который в нерешительности остановился за шлагбаумом.
Я посмотрел на главного, — глаза его стали больше обыкновенных, губы сделались мокрыми, и на лице возникла странно застывшая похотливая полуулыбка. Так что, скорее, он сделает свои штаны мокрыми, чем тот старатель, который осторожно совершал первые шаги по ярко освещенному тоннелю.
Третий старатель не хотел разделяться. Он внимательно смотрел себе под ноги, прежде чем сделать очередной шаг. Он был хитер, он ступал на следы, которые оставил после себя Максимыч.