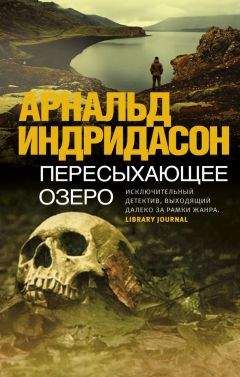– А вы когда-нибудь слышали об этом враче? Я имею в виду Антона Хейльмана.
– Нет. О нем мне известно ровно столько, сколько рассказала моя знакомая. Лично они знакомы не были, поскольку он скончался лет за двадцать до того, как она начала работать в клинике. Однако насколько ей удалось понять, врач он был уважаемый.
– Значит, можно предположить, что мать Нанны знала его – по крайней мере в лицо, – проговорил Конрауд. – Она ведь работала в клинике – правда, в столовой, но она вполне могла пересекаться с медперсоналом. А если этот Хейльман проводил вскрытие ее дочери, они, вероятно, даже общались.
– Ну да, я бы не удивился, если они и правда беседовали. В прошлый раз ты мне говорил, что та женщина не была до конца уверена, что ее дочь погибла в результате трагической случайности, верно? Она в этом вроде как сильно сомневалась?..
– По крайней мере так показалось тем, к кому она обратилась в Обществе эзотерики. Она просила посоветовать ей экстрасенса.
– Значит, она и спиритические сеансы посещала?
– Не знаю, – пожал плечами Конрауд. – Не исключено.
– Послушай, но есть ли хоть малейшая причина подозревать, что это был не несчастный случай? – мрачным тоном спросил Паульми.
– Нет, – покачал головой Конрауд после долгого размышления. – По сути, на это ничто не указывает.
Ливень продолжался, и когда Конрауд затормозил перед своим домом в Аурбайре. Еще не выключив мотор, он заметил под козырьком подъезда женщину, кутавшуюся от ветра в воротник пальто. Лишь через пару мгновений он с удивлением понял, что это бабушка Данни. Чтобы защититься от стихии, она даже натянула себе на голову полиэтиленовый пакет, толку от которого было немного, поскольку он уже успел разорваться в нескольких местах и по ее светлым волосам стекали дождевые капли. Бедняга вымокла до нитки. Конрауд немедля бросился к подъезду, чтобы провести ее в дом, но она ему и рта не дала раскрыть, а сразу же излила на него поток жалоб на ужасную, хамоватую женщину из полиции, которая заявилась к ним с наглыми обвинениями в адрес ее и ее мужа.
– Может, мы все-таки войдем? – попытался урезонить ее Конрауд. – Разговаривать на пороге не совсем удобно.
– Я пыталась дозвониться до вас, чтобы вы ее вразумили. До сих пор не могу успокоиться – она сказала нам… что Данни нас ненавидела! Вы понимаете? Как такое вообще можно говорить? А тем более нам! За кого она нас принимает?
– Ну, я… Видимо, у нее есть причины, чтобы…
– Причины? Какие причины? Россказни наркоманки? Это же чистая клевета. Поговорите с ней – пусть она оставит нас в покое. Хотя бы на время траура по Данни! Прошу вас. Будьте добры, скажите ей, чтобы она нас больше не тревожила.
Конрауд даже не знал, как реагировать на подобную просьбу.
– Вы не знаете, чего она добивается? – вновь заговорила женщина. – Зачем она нас донимает? По какому праву она высказывает нам такие обвинения?
– Я бы посоветовал не принимать это так близко к сердцу – она всего лишь ведет расследование. Случаи, подобные тому, что произошел с Данни, могут быть весьма запутанными.
– Да, но кто она такая, чтобы нас обвинять?
– Я не думаю, что она вас обви…
– Каких результатов она достигла в своем расследовании? Вам это известно?
– Нет, мне известно только то, что она крепкий профессионал, – ответил Конрауд. – Не сомневаюсь, что она прикладывает все усилия, чтобы выяснить, что произошло с Данни. Просто нужно запастись терпением, и…
– Терпением?
– Ну да.
– Послушайте, может, вы все-таки с ней поговорите? Ну или по крайней мере выясните, что у нее в голове? Мы с мужем уже не знаем, что и думать.
– Нет, это было бы неправильно. Марта еще обидится, если…
– Неправильно? А являться в наш дом и обвинять нас бог знает в чем, значит, правильно? Эта ваша Марта заявила, что Данни считала во всем виноватыми нас! И заявила она это с полной уверенностью.
– Может, мы все же войдем в дом?
– Спасибо, нет. Я-то полагала, что вы готовы нас выручить, но теперь понимаю, что… и вы нас осуждаете. Значит, я ошибалась. Я думала, что… ну да ладно, всего хорошего! – С этими словами женщина развернулась на каблуках и устремилась прочь под проливной дождь.
Конрауд продолжал стоять под козырьком подъезда, глядя ей вслед и задаваясь вопросом, приехала ли она на такси или на собственной машине.
Внезапно женщина остановилась и обернулась к нему:
– Данни мы желали только добра, – громко сказала она. – Знайте это: ничего, кроме добра!
И она снова засеменила под дождем с опущенными плечами и полиэтиленовым пакетом на волосах.
36
Он взялся за приготовление овсяной каши, стараясь довести ее до нужной густоты. Затем он достал оставшуюся половину ливерной колбасы и отрезал от нее несколько ломтиков в ожидании, пока каша закипит. Усевшись за стол, он отломил от колбасы еще несколько кусочков, бросил их в кастрюлю, добавил туда немного молока и как следует все перемешал. Овсяную кашу он любил соленой. Он знал людей, которые ели ее только с сахаром или даже с подслащенными сливками, что у него самого вызывало лишь тошноту. Ему каша нравилась густая, соленая, с молоком и ливерной колбасой – лучше даже пересоленной и с кислинкой, из тех что можно купить в январе-феврале, когда в магазинах появляются настоящие фермерские продукты. Он обожал ядреные вкусы.
По комнате плавал запах подгоревшей пищи, исходивший от брызг на варочной поверхности, оттереть которые губкой у него никогда не доходили руки. Он снял кастрюлю с конфорки, перелил кашу в миску и принялся за еду, пережевывая кусочки колбасы, в то время как из репродуктора дышащего на ладан радиоприемника доносились последние известия: сообщалось о человеке, который лежал в искусственной коме в отделении интенсивной терапии после погони полиции за двумя преступниками, завершившейся аварией на автомагистрали в Брейдхольте. Корреспондент передавал, что двое мужчин находятся под стражей в статусе подозреваемых в соучастии в контрабанде наркотиков. Слушал он рассеянно – такие новости были в порядке вещей, так что в одно ухо влетали, а в другое вылетали.
Отнеся пустую миску в раковину, он сполоснул ее горячей водой, чтобы она была готова для использования в обед на следующий день. Затем он проделал ту же процедуру с ложкой. Окон в комнате не было, а по размеру она равнялась двум смежным тюремным камерам. Возле раковины находилась плита с двумя конфорками. В коридоре имелась общая ванная с туалетом и душем, а также кухня, где стояли холодильник, телевизор и еще одна плита, которой он, однако, почти не пользовался, предпочитая две конфорки у себя в комнате. У одной из продолговатых стен притулилась продавленная койка в компании стола и стула. Перед плитой располагался столик поменьше. Вся эта «роскошь» была включена в арендную плату. Его собственные пожитки – одежда да пара-тройка предметов личного пользования – хранились в стоящей на полу коробке.
На его этаже были расположены четыре комнаты под сдачу. В каждой из них проживал один человек, и все жильцы были ему под стать: одинокие как перст.
Между собой они контактов тоже особенно не поддерживали. Он жил здесь дольше остальных. Другие приходили и уходили: лица, что он видел в коридоре или в кухне, постоянно менялись. Бывали среди них и поляки в поисках работы, и туристы… А может, и не туристы: с соседями он едва ли когда перекидывался парой слов.
Из своей комнаты он раньше полудня и носа не казал: обедал, слушал последние известия по радио, потом одевался по сезону, выходил на улицу и неторопливым шагом направлялся в западную часть города. Заглядывал в супермаркет, чтобы купить еды на вечер, кофе и чистящие средства, без которых было совсем уж не обойтись: с тех пор, как резко поднялась арендная плата, денег у него было в обрез. Иногда он спускался в порт поглазеть на причаливающие и уже пришвартованные суда. Добрую часть своей жизни он провел в море и скучал по тем временам.