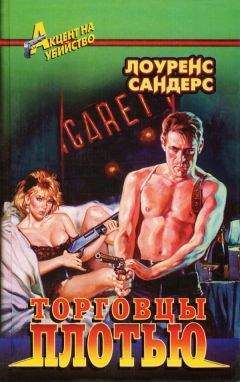— Хорошо, конечный срок — следующее Рождество. Обещаешь?
— Обещаю. Разве я тебя когда обманывал?
— Кто знает… Но пока я об этом не знаю, меня это не беспокоит.
Уже у двери я засунул руку под фланелевый халат и погладил мягкую, нежную грудь. Она закрыла глаза и ослабевшим голосом пробормотала:
— Питер…
— Когда закончится потоп?
— К субботе.
— В воскресенье я получаю деньги, мы отправимся куда-нибудь поужинать, а потом вернемся сюда и устроим оргию. Кстати, а можно ли устроить полноценную оргию вдвоем?
По дороге домой — снова позволил себе такси — я размышлял над актерской судьбой. Писатель может написать роман, и это все равно будет роман, даже если его никто не опубликует. Художник может выплеснуть свою ярость и свои фантазии на полотно, а потом изрезать его ножом. Поэт может написать лучший в мире сонет и спустить его в унитаз. Но актеру для того, чтобы быть актером, нужна публика.
Так, может, мои отношения с Дженни Толливер — впрочем, как и со всеми моими друзьями — основывались на потребности в аудитории, а не на любви и понимании?
Я наклонился к перегородке водителя и голосом мультяшного морячка Попейя произнес:
— Я есть то, что я есть.
— Как скажешь, приятель, — добродушно ответил водитель.
Как и большинство безработных актеров, в рождественский сезон я нанимался на временную работу. По четвергам и субботам с десяти утра до восьми вечера работал продавцом в роскошном мужском бутике на Восточной Пятьдесят седьмой улице. Бутик носил гордое наименование «Королевские длани». («Где находятся „Королевские длани“?» — «Да на заднице королевы, ты, болван!»)
Эта деятельность повергала меня в депрессию, как я понимал, в основном, потому, что я торговал шикарными вещами, которые сам позволить себе не мог: бумажниками из мягкой натуральной кожи, замшевыми жилетами с жемчужными пуговицами, шелковыми шейными платками.
И спереть я их тоже не мог, потому что менеджер здесь был на редкость бдительным.
Чтобы хоть как-то выдержать, я разыгрывал перед покупателями сценки: то изображал из себя педика-эстета, то педантичного лондонского клерка, то туповатого эмигранта, а то и беглого русского балетного танцора.
Покупатели были заинтригованы, а я выживал за счет того, что был не собой.
В тот четверг я вызвался пораньше сходить на обед. Накинув на плечи свое знававшее лучшие дни твидовое пальто — вроде крылатки, — я, повинуясь внезапному импульсу, двинулся на север, в сторону Мэдисон-авеню.
День был серым и гадким, в воздухе пахло дымом и гарью.
Бутик «Баркарола» находился в середине квартала между Шестьдесят седьмой и Шестьдесят восьмой улицами. Когда-то импозантный особняк был варварски переделан в четырехэтажный магазин, здесь торговали дорогими дамскими пальто, костюмами, платьями, спортивной одеждой, аксессуарами и драгоценностями — в основном из Милана и Рима. В таких местечках, как «Баркарола», не бывает распродаж и скидок.
Востроглазый страж дозволил мне войти, и я принялся фланировать по первому этажу, надеясь, наверное, встретить таинственную М. Т. Впрочем, в этом я и сам не был уверен, просто изображал нерешительного покупателя — хотя решительно с первого же взгляда стало ясно, что рождественский подарок для Дженни Толливер от «Баркаролы» мне не по карману.
И вдруг со всей очевидностью понял, что деньги, которые я зарабатывал за десятичасовой день за прилавком, не идут ни в какое сравнение с тем, что заплатила мне Марта за «нормальный здоровый трах»: весьма отрезвляющее сравнение.
Я вышел из магазина и некоторое время глазел на витрину. Типично нью-йоркский дизайн: конфетти, серпантин, жестяные трубы — и два роскошных вечерних платья, черное и белое, украшенные боа из перьев, две пары длинных мягких перчаток… Даже пластиковые манекены, на которых эти платья были надеты, взирали на меня свысока.
Я перешел на другую сторону улицы и принялся разглядывать шикарных, ухоженных дам с Ист-Сайда, плавно втекающих и вытекающих из дверей «Баркаролы».
У всех у них, что молодых, что старых, была одна общая черта: горделивая осанка, которую даровали только большие деньги. Я взирал на них с завистью и благоговением: вот они, доллары, во всей их красе.
Целых десять минут я не мог отвести взгляда от этого парада благоуспеяния и самоуверенности, а потом развернулся и побрел в дешевую уличную забегаловку, где подкрепился хот-догом и апельсиновым соком явно химического происхождения.
Вернувшись в «Королевские длани», я позвонил в телефонную службу — скорее по привычке, чем с прежней надеждой, что получу какое-то жизненно важное сообщение.
Оператор сказала, что звонила женщина по имени Марта и оставила свой номер телефона.
Я набрал этот номер.
Она сказала, что хотела бы завтра со мной встретиться.
Я сказал, что скорее всего мог бы это устроить.
Марта уходила меня насмерть — она скакала и вертелась, как взбесившийся мустанг. Я старался не подкачать и мечтал только об одном — чтобы она не перецарапала мне задницу: а вдруг Дженни Толливер что-нибудь заметит?
Но через какое-то время эти страхи, естественно, отступили, и я принялся наказывать ее за то, как бесстыдно она меня использует: я вламывался в нее, как разбойник с большой дороги, и это ей, судя по воплям и стонам, нравилось. А потом без сил лежал на ней, прижавшись губами к внушительным грудям. Она крепко-накрепко прижала меня к себе.
— О Господи, — тяжело отдуваясь, простонала она.
— Меня зовут Питер, — напомнил я.
— Слушай, мне надо пи-пи, а ты еще полежи: мне надо с тобой серьезно поговорить, и постель — лучшее для этого местечко.
Сумочку она на этот раз с собой не взяла, и, как только дверь ванной закрылась за ней, я подскочил и принялся лихорадочно рыться: кошелек, водительская лицензия, кредитные карточки, косметика, презервативы, салфетки, ключи, всякая всячина.
Звали ее Марта Тумбли, и что гораздо интереснее: в серебряной коробочке лежали визитные карточки, из которых явствовало, что Марта работает в «Баркароле» менеджером. Менеджером, черт побери!
Когда она вышла из ванной, я уже лежал в постели и курил.
Она легла рядом и нежно провела пальцем мне по животу.
— Все получилось прекрасно, — сообщила она.
— Фирма гарантирует!
— Да уж! — Она улыбнулась. — Слушай, Питер, у тебя есть друзья?
Я повернулся к ней.
— Конечно, у меня есть друзья, — и непонимающе воззрился на нее, а потом сообразил и голосом Марлона Брандо из фильма «У воды» рявкнул: — Все понятно! Ты хочешь, чтобы я ревновал!
Она засмеялась:
— Ничего личного, Питер, но… Понимаешь, я люблю разнообразие.
— Ты уже мне говорила: ты женщина нового типа и сама выбираешь себе удовольствия.
— Совершенно верно.
— Что ж. Могу найти тебе мужика. Относительно мытого.
— Отлично, тогда устрой, хорошо? Позвони мне, получишь двадцатку за труды.
— Справедливо.
Она с пониманием глянула на меня.
— Но хуже, чем шестьдесят, не так ли? Не беспокойся, Питер, с тобой хочет встретиться моя подружка. За полтинник. Интересует? — Я и не подумал отказаться. — В понедельник, пойдет? В три дня. Ее муженек будет в командировке.
— Идет.
— Вот и отлично! — Она похлопала меня по бедру. — А теперь мне пора идти.
— Я провожу тебя до такси.
— Какой ты воспитанный!
Артур Эндерс был таким бесцветным, что я однажды назвал его «чуть подрумяненным альбиносом». Бледная кожа, белесые волосы, водянистые глаза. Будущий великий драматург носил бежевое и светло-голубое и оттого еще более походил на привидение.
Мы уже два года жили в одной квартире, как вдруг Эндерс объявил, что собирается стать гомосексуалистом.
— Меня к этому побуждают вовсе не физиологические и не эмоциональные причины, — пояснил он. — Это чисто интеллектуальное решение. Если я собираюсь писать пьесы, то должен на своей шкуре испытать, что думают и чувствуют другие люди. Я должен испытать все.
— Отлично. Но тогда тебе следует убить мать, изнасиловать сестру и перенести крутую наркотическую ломку.
Эндерс оказался самым бездарным гомосексуалистом во всем манхэттенском сообществе геев, где он скоро заслужил кличку «сеньор Клутц»: в дополнение ко всем остальным своим подвигам он отправился на свиданку с поклонником садомазохизма, в процессе потерял ключи от наручников, и пришлось вызывать слесаря, чтобы тот отковал бедолагу от спинки кровати.
А в другой раз он явился на рандеву с тюбиком суперклея вместо вазелина. В конце концов голубые начали бояться его как огня.
Эта фаза длилась почти год, после чего Эндерс объявил, что узнал достаточно для своей будущей работы.