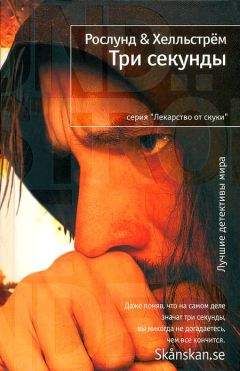— Доброе утро.
Охранник отпер дверь и заглянул в камеру. Хоффманн сидел на краю койки и молча смотрел на него. Ничего личного — просто таковы правила.
— Доброе утро. — Вертухай не сдавался.
Он будет стоять и ждать, пока не удостоверится, что заключенный жив и все в порядке.
— Доброе утро. И отвянь от меня.
Надзиратель кивнул и пошел дальше, осталось две камеры. Пора действовать. Когда отопрут последнюю дверь, будет уже поздно.
Носок — вокруг дверной ручки. Потянуть. Дверь, которая не запиралась и не захлопывалась изнутри, плотно закрылась, когда Хоффманн затолкал носок между дверью и дверным косяком.
Секунда.
Простой деревянный стул, который обычно стоял возле шкафа, Хоффманн поставил прямо перед порогом, чтобы перегородить дверной проем.
Секунда.
Подушки, покрывало и штаны превратились в тело под одеялом, а синие рукава спортивной куртки сделались «руками». Конструкция никого не обманет. Но при беглом взгляде создаст иллюзию.
Полсекунды.
Оба охранника исчезли в коридоре. Все камеры были отперты; Хоффманн встал слева от двери, прижавшись к стене. Они могут прийти когда угодно. Если они все узнают, если его раскроют, смерть последует немедленно.
Пит смотрел на носок, намотанный на ручку, на стул в дверном проеме, на подушки под одеялом.
Две с половиной секунды.
Его спасение, его время для ответного удара.
Он тяжело дышал.
Он притаится здесь, у стены, на ближайшие двадцать минут.
Его первое утро в Аспсосской тюрьме.
* * *
Перед ним кто-то стоял. Две тощих ноги в костюмных брюках. Ему что-то сказали и теперь ждали ответа. Но он молчал.
— Гренс? Что вы делаете?
Эверт Гренс спал на полу за коричневым диваном, положив на живот сложенные в папку материалы расследования.
— У нас встреча. Вы же сами хотели поговорить. Вы что, пролежали здесь всю ночь?
Побаливала спина. Сегодня пол оказался жестче.
— Вас это не касается.
Гренс перевернулся, приподнялся, потом уперся руками в подлокотник дивана, и мир покачнулся.
— Как вы себя чувствуете?
— Это вас тоже не касается.
Ларс Огестам сидел на диване, дожидаясь, пока Гренс дойдет до своего стола. Они недолюбливали друг друга. А точнее — терпеть не могли. Молодой прокурор и пожилой комиссар происходили каждый из своего мира, и ни у того ни у другого не было охоты наведаться в мир собеседника. Огестам предпринял было пару таких попыток, во всяком случае в первые годы. Он заводил лёгкие разговоры, слушал и наблюдал, пока не убедился, что все бесполезно, Гренс решил презирать его, и ничто не изменит его решения.
— Вестманнагатан, семьдесят девять. Вы хотели рапорт.
Ларс Огестам кивнул.
— Мне почему-то кажется, что вы в тупике.
Они в тупике. Он в этом не признается. Пока.
— Мы отрабатывали несколько направлений.
— Каких?
— Я пока не готов говорить об этом.
— Я не знаю, что у вас есть. Если у вас есть хоть что-то — скажите мне, а потом можете послать меня к черту. По-моему, у вас вообще ничего нет. И я думаю, что пора исключить это дело из списка первоочередных.
— Исключить из списка!
Ларс Огестам широким жестом утвердил тощий локоть на столе с кипами неоконченных расследований:
— Вы топчетесь на месте. Предварительное следствие застряло. Вы не хуже меня знаете, что неприемлемо оттягивать на себя столько ресурсов, когда вот-вот потерпишь крах.
— У меня нет ни одного нераскрытого убийства.
Они посмотрели друг на друга. Каждый происходил из своего собственного мира.
— И… что в таком случае у вас есть?
— Убийство, Огестам, это не первоочередная задача. Убийство — это предмет расследования.
— Вы знаете…
— И я занимаюсь этим тридцать пять лет. Начал, когда вы еще пеленки пачкали.
Прокурор не стал слушать. Когда решаешь не слушать — то и не слушаешь. Слова Эверта Гренса уже давным-давно не обижали его.
— Я прочитал, что вы выяснили во время предварительного расследования. Выяснили… довольно быстро. Но на периферии осталось несколько неразработанных имен. Пройдитесь по каждому, разберитесь с ними. У вас три дня. Потом мы снова встретимся. И если у вас к этому времени не будет ничего нового, вам лучше придержать язык, пока я буду определять, чем заняться в первую очередь.
Гренс смотрел, как решительная спина в костюме скрывается в дверях. Он готов был наорать на нее, но другой голос, которого прежде не было, тот самый, который две недели звучал у него в голове каждый божий час, снова пробился и зашептал, настойчиво, монотонно до тошноты повторяя короткие фразы.
— Убит мужчина. Вестманнагатан, семьдесят девять. Пятый этаж.
У него три дня.
Кто ты?
Где ты?
Он простоял, вжавшись в стену, двадцать минут, все мускулы напряжены. В каждом новом звуке ему чудилась угроза нападения.
Ничего не случилось.
Пятнадцать заключенных, его соседей по коридору, потянулись к туалету и душевым, потом — на кухню, к раннему завтраку. Никто не остановился у его двери, никто не попытался открыть ее. Сегодня его по-прежнему звали просто Пит Хоффманн, он был человеком из «Войтека», которого посадили за три килограмма польских цветочков в багажнике машины и который еще раньше проделал трюк с легавым — прицелился и дважды выстрелил в паскуду.
Потом заключенные скрылись, один за другим, — кто в прачечной, кто в мастерской, большинство направились в учебные комнаты, двое — в медпункт. Никто не устроил забастовку и не остался в камере — а это здесь часто бывало. Кто-нибудь, наплевав на перспективу продления срока, отказывался от работы. Пара месяцев, добавленных к двенадцати годам — всего лишь слова, записанные в бумажках засунувшего его сюда общества.
— Хоффманн!
Тюремный инспектор, принимавший его вчера, ледяные глаза буровят каждого, кто стоит перед ним.
— Что?
— Пора выходить из камеры.
— Мм?
— На работу. Убираться. В административном здании и в мастерской. Но не сегодня. Сегодня пойдешь со мной и попробуешь понять, где, как и когда ты будешь орудовать своими щетками и хлоркой.
Они бок о бок прошли по коридору тюремного сектора, потом спустились по лестнице в подземный коридор.
— Когда Паула прибудет в Аспсос, рабочее место должно быть уже подготовлено. В первый же день он должен приступить к уборке в административном здании и в мастерской.
Бесформенная одноцветная роба жала в бедрах и плечах; Хоффманн и его провожатый поднимались на третий этаж корпуса «В».
— Работа уборщика — это, с точки зрения заключенных, награда.
Сначала они остановились перед туалетом у входа в мастерскую.
— Значит, наградите его.
Хоффманн кивнул; он должен начинать свой тур чистоты именно здесь, с расколотых раковин и зассанных стульчаков, в пропахшей плесенью переодевалке. Потом инспектор ввел его в темное помещение мастерской, где слабо пахло соляркой.
— Туалет, кабинет — вон тут, за стеклянной стеной, а потом — всю мастерскую. Понял?
Пит постоял в дверном проеме, изучая помещение. Верстаки с чем-то похожим на блестящие трубы, полки с рулонами упаковочной ленты, прессовщики, автопогрузчики, наполовину заполненные грузовые контейнеры, на каждом рабочем месте — заключенный, зарабатывающий десять крон в час. Тюремные мастерские производили незатейливые товары, которые потом перепродавались коммерческим производителям. В Эстерокере Пит распиливал красные квадратные бруски для производителей детских игрушек, а тут были части фонарных столбов — продолговатые, в десять сантиметров длиной дверцы, которые располагаются над землей и открывают доступ к проводам и контактам. Такие дверцы попадаются чуть не на каждом метре любой дороги, на них никто не обращает внимания, но ведь где-то же их делают. Тюремный инспектор вошел в мастерскую и теперь показывал на пыль и переполненные мусорные корзины, Хоффманн тем временем кивал незнакомым заключенным — тому, лет двадцати восьми, что стоял возле пресса и сгибал длинные кромки дверцы, и тому, говорящему по-фински, у сверлильного станка, он просверливал дырочки для винтиков, и тому, поодаль, у окна, с большим шрамом от горла до щеки, который наклонился над чаном с соляркой и протирал инструменты.
— Пол видишь? Смотри, чтобы вылизать тут мне все, отдраить как следует, не то будет вонища.
Хоффманн не слушал, что говорит ему этот долбаный вертухай. Он остановился возле чана с соляркой, у окна. Именно в это окно он и целился. Лежал на балконе церковной башни, держал в руках воображаемое оружие и стрелял в окно, до которого было ровно тысяча пятьсот три метра. Красивейшая церковь, и отсюда отлично видно башню целиком — так же хорошо, как с башни видно окно мастерской.