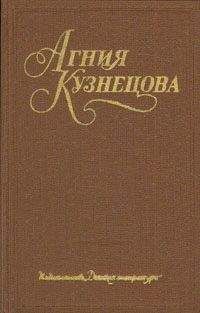Там она открыла одну дверь, вторую, третью…
— Так и есть, — сказала она грозно, — он — спит.
Я открыл глаза и увидел перед собой Машу. Она стояла в дверях спальни и смотрела на меня. Заметив, что я проснулся, она сказала:
— Ты мало обо мне думал.
Мы поменялись ролями, — в прошлый раз я пришел к ней… Но так хорошо, когда приходят и к тебе.
Мне стало так необыкновенно, когда я открыл глаза и увидел Машу. Я был — счастлив.
Счастье — это такое состояние, когда никакого другого счастья больше не нужно. Вполне хватит и этого.
Только хотелось, чтобы это мгновенье продолжалось вечно, — но я уже догадывался, что вечно мгновенья не длятся. На то они и мгновения.
Это все портило. Моя дурацкая прозорливость.
Все мое розовое впечатление… Когда оно пройдет, это самое мгновенье, я начну бояться, что оно больше никогда не повторится.
— Привет, — сказал я. — Ты в боевом настроении… Я думал, вы давно в Лондоне.
— Вместо того, чтобы извиниться, — ужаснулась Маша. — Ты столько нам измотал нервов. Вместо того, чтобы попросить прощения у меня, у Ивана, у Владимира Ильича…
— Кто такой Владимир Ильич? — не понял я. — Ленин?
— Ленин? — повторила Маша таким тоном, как-будто я изрек невероятное какое-то политическое кощунство… И кинулась на меня с кулаками.
Она накинулась на меня, поднимая белые и острые кулачки, и опуская их на мою грудь. Они выбили из нее задорную барабанную дробь.
Я, конечно же, сопротивлялся, как мог, но у меня плохо получалось.
От Маши необыкновенно пахло, — и тревожно, и дразняще, и как-то еще, — умопомрачительно. Ближе друг к другу мы еще никогда не были. И ее смертельные удары были такими нежными.
— Когда у меня появится дама сердца, — услышал я голос Ивана и увидел, как он стоит в дверях, — я ей тоже буду разрешать время от времени меня поколачивать.
— Да закрой же ты, наконец, дверь! — крикнула ему Маша. — Некрасиво подглядывать!
— Опять я у нее виноват, — сказал Иван, подмигнул мне самым хитрым своим подмигиванием, и закрыл за собой дверь.
Так что мы остались с Машей одни.
И я увидел, силы ее подходят к концу. Она стучит об меня своими кулаками не с такой частотой, и не с таким беспримерным напором.
— Извини, — сказал я, — у меня теперь проблемы с зубами. Поэтому я не улыбнулся тебе.
Она перестала делать из меня отбивную котлету.
— Улыбнись, — приказала она.
Ну, я и улыбнулся, — что мне оставалось делать.
— Они у тебя, как переломанный забор, — сказала, мне показалось, с каким-то чуть ли не удовольствием, Маша. — Где тебя угораздило?
— Подрался как-то.
— Из-за меня? — здесь в ее тоне я уловил неподдельный интерес.
— Наверное, из-за денег, — осторожно сказал я.
— Прекрасно, — сказала она и попросила. — Ну-ка, улыбнись еще.
Я улыбнулся еще.
— Замечательно, — сказала она, рассматривая меня. — Тебе идет… Когда ты улыбаешься, от тебя воротит. Никто теперь на тебя не посмотрит.
— Да, это замечательно, — осторожно согласился я. — Только немного непонятно, почему?
— Иван сказал, у тебя есть любовница… Он сказал, раз мы с тобой ни разу не целовались, то у тебя обязательно должна быть любовница.
— А почему мы с тобой ни разу не целовались?
— Ты не ответил на мой вопрос.
— Значит, ты решила отгородить меня от окружающего мира моими же зубами?
— Пока у тебя не вырастут новые. А это когда еще будет. Месяца на два, — точно. Потом я что-нибудь придумаю еще. Как этот твой окружающий мир свести к нулю.
— Какие новые?
— Которые растут… Ты не ответил на мой вопрос.
— Что растет?
— Новые зубы, что еще… Не путай меня.
Я пошурудил во рту языком, — на самом деле, в дырках, оставшихся от выпавших обломков, почувствовал что-то твердое. Какая разница: растут или не растут. Но какая прекрасная ложь!
— Есть еще один способ решить эту проблему, — сказал я.
— Какой? — с интересом спросила Маша… Она видела только один, тот, который придумала. Никакого другого больше не видела.
— Поцеловаться, — сказал я.
— Что? — спросила она, чуть ошарашено. Конечно, подобного она и представить себе не могла.
У меня, как у безусого мальчишки, впервые оставшегося наедине с девочкой, кружилась голова, — мгновенье это продолжалось, и не кончалось. Такое удивительное мгновенье.
Но в глазах Маши я увидел страх… Успел заметить. Она чуть ли не пришла в ужас, от тех слов, которые я ей сказал.
— Ты ненавидишь меня? — спросил я.
— Нет, — ответила она.
— Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал?
— Нет.
— Ты боишься?
— Не то слово. Я вся трясусь.
— Чего ты боишься? — спросил я.
— Я не знаю, — сказала она, очень серьезно. Решив, что я ее понимаю. — Но я очень боюсь.
И тогда я поцеловал Машину руку. Которой она только что колотила меня.
Я преподнес к губам ее длинные с тщательно ухоженными ногтями пальцы, и прикоснулся к ним. Губы мои почувствовали чуть горьковатый вкус ее кожи, такой раздражающе-манящий, такой родной, что все текущее и текущее мгновение моего счастья вдруг превратилось в другое мгновенье, когда уже никакие мгновенья вообще не играли больше никакой роли.
— Что ты делаешь? — полушепотом, испуганно спросила меня Маша.
Но руку не отдернула.
Оставила ее, безвольную и неживую, у моих губ.
Но я и не думал отвечать на ее вопрос, потому что, что делаю, я не знал сам. Уносился в какую-то высь, и не мог остановиться.
— Эй вы там, — раздался голос Ивана и следом его бесцеремонный грохот в дверь. — Чего затихли?!. Вымерли, что ли?.. На счет «три» я открываю, приготовьтесь… Раз…
— Опять он! — воскликнула Маша, и довольно больно ударила меня кулачком в грудь. — Я когда-нибудь повешусь из-за него. Он сведет меня в могилу!
— Два… — сказал Иван. — Не будьте эгоистами. Нашли время.
Киноэкран занавесили огромным российским флагом, во всю стену. На сцене выставили длинный стол, и накрыли его кумачом. А в зале собрали всех сотрудников объекта, чуть ли не четыреста человек.
Заиграл гимн Российской Федерации, — все встали.
После того, как стихли последние звуки музыки, — раздались бурные и продолжительные аплодисменты.
Зал аплодировал стоя, — стоял, какое-то время, и президиум…
Затем к трибуне вышел Георгий. Наступила гробовая тишина. Слышно было, как он открывал листочки с тезисами речи, и как наливал из бутылки в стакан «кока-колу».
— Хотел бы начать свой доклад с обращения к вам, — начал Георгий, — но вот в чем проблема… Можно было начать: Господа!.. Но господ мы подвели под корень еще в семнадцатом году прошлого века… Можно было бы сказать: Товарищи!.. Но с товарищами, мы как-то разобрались в девяностом… Поэтому, говорю вам: Дорогие братья!..
В этом месте речь прервалась бурными аплодисментами.
— Получается так, что само собой, в обращение вошло новое, более правильное, более выстраданное слово. Это слово: Брат!..
Бурные и продолжительные…
— Дорогие братья!.. Мы с вами живем в великую историческую эпоху. Еще пятнадцать лет назад эта огромная необозримая страна не принадлежала никому. Вспомните: огород в шесть соток и машина, одна на семью, и то, если повезет. Даже квартира не могла быть вашей… За пятнадцать лет в нашей стране произошли грандиозные изменения. Настолько грандиозные, что они еще не укладываются в сознании, оценить их по достоинству смогут только следующие поколения братьев, которым мы, как эстафетную палочку, передадим свое дело…
Бурные и продолжительные…
— Жаль с катапультой какие-то проблемы, — прошептал бухгалтер Коляну, от которого сидел по левую руку. По правую от Коляна сидел Толик. Он сидел строго, выпрямившись на стуле, словно стоял на посту.
— Да и то, — прошептал, в ответ, Колян, — такие слова…
Георгий говорил ровно тридцать минут, как и предполагалось. Нужно бы, пожалуй, привести здесь его речь целиком, потому что она заслуживает того, — но через месяц она была опубликована, — лишь в слегка отредактированном виде, — в журнале «Власть и Деньги», так что желающих более подробно ознакомиться с ней, отсылаем к его страницам.
В конце Георгий сказал:
— Особую благодарность мы выражаем руководителю объекта, Николаю Константиновичу Бурьянову… Чей вклад в его строительство, поистине неоценим…
Коляну пришлось встать, и, под гром оваций, поклониться залу.
— И рады сообщить, мы переводим Николая Константиновича на работу в Москву, на ответственную должность… Руководить объектом с этого момента назначается Анатолий Викторович Гусев, прошу любить и жаловать…
Пришлось встать Толику, и тоже поклониться. Под не менее бурные овации.
Только Колян забыл похлопать в ладоши, он вдруг побледнел, до какой-то изначальной синевы. И стал похож на мертвяка, который провалялся в морге не меньше недели.