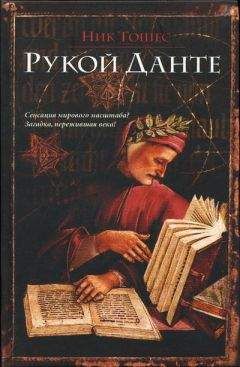Наступила тишина. Вдалеке запела птица, и казалось, только ее голос нарушал покой мира. Когда птица умолкла, заговорил поэт:
— И вы тоже мой друг. Я сожалею о невпопад брошенных словах, которые так сильно задели вас. И сожалею о том, что подвел вас.
Его друг и патрон качнул головой, как бы в подтверждение того, что промелькнуло в их словах и их молчании, промелькнуло, но ушло, неопределенное и непонятое.
— Раз уж мы говорим, — негромко продолжал поэт, — как друзья, то позволительно ли мне обратиться к вашей искренности?
Свет в выжидательном взгляде его друга и патрона был ему ответом.
— Было ли в моем труде что-то такое, что доставило нечестивое удовольствие?
Свет в глазах его друга и патрона померк и вспыхнул снова: голова опять качнулась в знак подтверждения.
— Да, мне было приятно, что вы поместили в Ад мою покойную тетушку Франческу. Она причинила этой семье немало горя и стыда.
— А вам никогда не приходило в голову, что я, может быть, сделал это из нечистых побуждений, желая добиться вашего расположения?
— Да, я думал об этом. А теперь позвольте мне обратиться к вашей откровенности. Вы действительно написали так по этой причине?
— Разрази меня Господь, если я солгу, но, по правде говоря, я уже не помню.
И снова легкий кивок. Потом друг и патрон помолчал и заговорил уже громче:
— Достаточно о Боге. Достаточно о правде. — Он поднялся и подошел к шкатулке орехового дерева, стоявшей на невысоком, длинном шкафчике еще более старого и темного от времени дерева. — Подойдите.
Поэт встал рядом, и тогда его друг и патрон снял ловко подогнанную крышку с ореховой шкатулки и развернул муслиновые складки свертка, под которым обнаружилась стопка листов прекраснейшего пергамента. Взяв верхний, друг и патрон поднял его к свету. Будучи более тонким, чем листы древней книги, которую дал поэту старый еврей, этот таил в себе тот же перламутровый блеск и был ангельски белым и совершенно чистым, без малейшего пятнышка или неровности.
— Знаете ли вы, как часто я поднимал этот лист к свету? Мысленным взглядом я видел большую, искусно выписанную enne, с которой начинается поэма, rosso scuro, цвет, которого нет ни у одних чернил. — Он повернулся к поэту, все еще держа лист против света. — Я никому не говорил об этом, но, возможно, мне удастся раздобыть старинные пурпурные чернила и прекрасный красный minum. — Он опустил лист и передал его поэту, который, полюбовавшись пергаментом, осторожно вернул сокровище в шкатулку. Друг и патрон поэта бережно закрыл крышку и ласкающе провел ладонью по стенке шкатулки. — Это редчайший материал из кожи неродившихся ягнят. Он придает особый блеск чернилам каждого цвета.
Полагаю, наш друг Джотто никогда не работал с пергаментом, но его рисунки будут так же божественно великолепны, как и его фрески. Кстати, кожа для переплета тоже готова, самая лучшая бычья кожа, выдубленная по африканскому методу.
Поэт не сводил глаз с ореховой шкатулки. Сколько же животных так и не увидело свет только для того, чтобы этот ящичек наполнился тончайшими листами пергамента.
— Пожалуй, только из прозрачной кожи Беатриче времени ее девственности мог бы получиться материал более подходящий.
Поэт отвел взгляд от шкатулки и странно посмотрел на своего друга и патрона.
— Нечто подобное можно купить у африканских арабов за большие деньги, — ответил его друг и патрон. — Но мне нужно лучшее. — Он кивнул в сторону ореховой шкатулки. — Если это удовлетворит вашу жажду знаний, то знайте, что их пергамент уступает этому по качеству.
Поэт вернулся к мягкому уюту кресла. Взгляд его, как бывало уже не раз, скользнул по томам, стоявшим на полках из того же старинного темного дерева, что и шкафчик. Он представил, как «Комедия» займет свое место на одной из них.
Его друг и патрон кивнул, словно прочитав мысли гостя, и сказал:
— Ваша поэма будет лежать в шкатулке из дерева каштана, обитой золотом и подбитой бархатом, украшающим то самое кресло, в котором вы сидите. Она будет покоиться на аналое, изготовленном из того же дерева, так что и шкатулка, и аналой будут одинаково торжественны и прекрасны. Рядом с аналоем будет находиться подсвечник со свечой, которую всегда можно будет зажечь, чтобы прочитать книгу.
Будто зачарованный, слушал поэт это выражение любви и восторга в отношении того, что еще не существовало. Его друг и патрон, похоже, и сам подпал под магию картины, вызванной собственными словами; оба мужчины молча, сидели в почтительном раздумье о том, что стояло лишь перед их мысленным взором.
Когда поэт поднялся, медленно и словно собираясь объявить, что уходит, его друг и патрон беззвучно положил на стол новенький florino d'oro; на испускавшем тусклое сияние столе, сделанном из того же старого темного дерева, что и шкаф, и полки, монета выделялась своим ярким блеском.
— На нужды либо желания.
Поэт посмотрел на монету, потом на своего друга и патрона.
— Вы уже дали мне более чем достаточно.
Он взял палку, улыбнулся на прощание и повернулся к арке каменного портала.
Он уже перенес ногу через порог, когда его догнал голос друга и патрона:
— Я просто не понимаю. Один год на «Чистилище». С тех пор прошло шесть лет, а «Рай» все еще не закончен. Я просто не понимаю.
Поэт обернулся.
— Я тоже, — честно сказал он. — Я тоже.
Поэт задержался, надеясь, что за этими словами придут другие, но слова не шли.
— Она ведь будет закончена, да?
И тогда слова пришли:
— Все со временем приходит к своему завершению.
В зале для курящих не было никого, кроме одного седовласого джентльмена с маленьким черным виниловым чемоданчиком, красные буквы на крышке которого складывались в надпись «Европейское кардиологическое общество». Мужчина спокойно и с явным наслаждением курил, и я, не удержавшись, с улыбкой сказал, что мне нравится представляемый им образ: чемоданчик с надписью и дымящаяся сигарета во рту. Поняв, о чем идет речь, он кивнул, улыбнулся в ответ и тоном заговорщика прошептал:
— Только никому не говорите.
Оказалось, что он возвращается из Стокгольма, где выступая с приветствием перед международным конгрессом специалистов по сердечным заболеваниям. Все присутствующие на конгрессе врачи получили такие вот чемоданчики.
Наш короткий разговор близился к концу, и я поинтересовался, удалось ли ему, при всех официальных обязанностях, выкроить свободное время в Стокгольме.
— Вы там бывали когда-нибудь?
— Нет.
— Свободное время в Стокгольме то же самое, что свободное время в чистилище. Там ничего нет.
Некоторое время мы сидели, молча и курили. Потом он спросил, не буду ли я против, если он на пару минут включит телевизор, чтобы посмотреть новости.
Вообще-то я был против, но возражать не стал.
И вот тогда мы увидели, как самолет «Юнайтед эрлайнс» врезается в одну из башен-уродин в центре Манхэттена.
Мы недоверчиво переглянулись, однако уже в следующую секунду поняли все без слов. Аллах явил свою волю и свой гнев.
— Летайте самолетами «Юнайтед», — сказал я.
Черные клубы курящегося разрушения заволокли небо. На наших глазах второй самолет поразил цель. Тогда доктор заговорил, медленно кивая в знак подтверждения наступления нового века, свидетелями чего мы только что стали.
— По крайней мере утешает уже то, что власти в своей заботе и мудрости защитили тех невинных от опасностей вдыхания продуктов горения.
Он закурил еще одну сигарету и снова покачал головой, но теперь уже отрицательно.
— Добро пожаловать в апокалипсис. Здесь не курят.
Луи, ангелу смерти, это бы понравилось. Гибель в огне.
Те звуки на фоне скребущихся крыс в ночлежке утопленников: крики пьяных арабов и то ли трахающих, то ли убивающих друг друга обкуренных тунисцев — определить невозможно — в соседних комнатах. Звуки монотеизма.
Бум, бум, бум. Звуки монотеизма.
Монотеизм. Корень всего зла.
Отбросив язычество, отказавшись от богов и расщепив священное на всемогущих, человек выбрал, вознес и принял под разными именами и обличьями давно уснувшего Эниалиона, критского бога войны и разрушения, ступив, пользуясь словами Уильяма Блейка, на путь самоуничтожения.
Эниалион. Ad nihil. Аннигиляция. Уничтожение.
Искусственные рождения одного настоящего, истинного Бога дали начало смертельной болезни, чумы Эниалиона: ψΰχόθςος, смерти души. Там, где когда-то душу и небо пронизывала теофания, теперь поднимался, пронизывая умершие душу и небо, черный дым уничтожения.
Существуют виды животных, убивающих себе подобных ради пропитания или в борьбе за территорию. Но именно патология религии сделала человека самым противоестественным, ужасным, самоуничтожительным из всех видов. Люди воевали всегда: ища в войнах милости богов. Но они не воевали во имя богов. Елена Троянская была дочерью Зевса и смертной женщины, однако же во время Троянской войны Зевс не встал на чью-нибудь сторону. Первыми во имя Бога Всемогущего начали убивать евреи в третьем веке до нашей эры, воюя против греков. И именно евреи приняли греческих богов. Но злом агрессии монотеизм был с самого начала, еще тогда, когда тысячью годами раньше Аменхотеп IV насильно навязал его почитавшим многих богов египтянам.