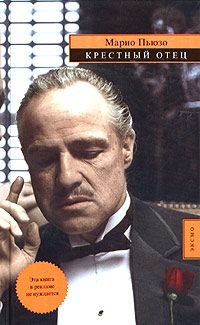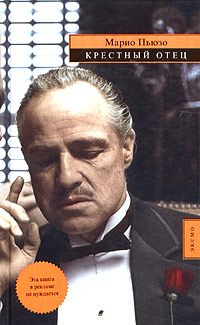В мужском кругу постоянно обсуждались те или иные способы, преимущества различных позиций ― он, откровенно говоря, особенно не увлекался этими выкрутасами. Если и пробовал их, то сразу охладевал к женщине, просто не получал настоящего удовлетворения. Он и со своей второй женой в конечном счете оттого не смог ужиться, что она чересчур пристрастилась к позиции валетом и не признавала никакой иной, отсюда и вечные скандалы, когда он пытался жить с ней обычным способом. Она взяла себе моду высмеивать его, называть жалким примитивом, пошел слушок, что в своих представлениях о любви он так и не вышел из подросткового возраста. Не потому ли, кстати, и вчерашняя девица его отвергла? Да ладно, пес с ней, с девицей, невелика потеря, судя по всему. Настоящую охотницу покувыркаться в постели распознаешь сразу, они-то и есть самый смак. Особенно если занимаются этим не слишком давно. Он терпеть не мог таких, которые начинают лет с двенадцати и к двадцати годам уже дочиста изнашиваются, только делают вид, что им приятно, причем как раз среди них попадаются самые хорошенькие, каким ничего не стоит тебя одурачить.
Джинни принесла кофе и печенье, поставила на длинный стол в той половине комнаты, которая служила гостиной. Ей он сказал только, не вдаваясь в подробности, что Хейген помогает ему получить ссуду на производство нескольких картин, и эта новость привела ее в волнение. Он снова станет большим человеком! Она не подозревала, как всемогущ на самом деле дон Корлеоне, и не могла оценить исключительность такого события, как приезд Хейгена из Нью-Йорка. Джонни прибавил, что Хейген, кроме того, дал ему ряд советов по юридической части.
После кофе он объявил ей, что будет весь вечер работать ― звонить нужным людям, составлять план действий.
― Половина всего, что заработаю на этом, пойдет детям, ― сказал он.
Джинни благодарно улыбнулась в ответ и, уходя, поцеловала его.
На письменном столе его дожидались в стеклянной шкатулке любимые сигареты с монограммой, портсигар с увлажнителем, полный черных, тонких, как карандаш, кубинских сигар. Джонни удобней устроился на стуле и взялся за телефон. Мысли роились, вихрились у него в голове. Первым делом он позвонил писателю, автору нашумевшего романа, который лег в основу только что отснятого фильма. Писатель был одних с ним лет ― он прошел тернистый путь, покуда добился известности, но теперь его имя гремело в литературных кругах. Он ехал в Голливуд, рассчитывая, что его там встретят как важную персону, но натолкнулся, подобно большинству авторов, лишь на самое хамское пренебрежение. Однажды на банкете, устроенном в шикарном клубе, Джонни привелось стать свидетелем его унижения. Развлекать писателя в тот вечер ― а подразумевалось, что и в ту ночь, ― согласилась достаточно известная пышногрудая кинокрасотка. Однако уже за столом красотка покинула знаменитого писателя, потому что ее поманил к себе пальцем тщедушный хлюпик, подвизавшийся на комических ролях. Таким образом писатель получил ясное представление о том, кто есть кто в голливудской табели о рангах. Что за важность, если он написал книгу, которой прославился на весь мир. Кинокрасотка, не раздумывая, предпочтет ему самого невзрачного, плюгавого заморыша, который имеет связи в мире кино...
Этому-то писателю и позвонил в Нью-Йорк Джонни Фонтейн ― якобы затем, чтобы поблагодарить за прекрасную роль, написанную, можно сказать, будто специально для него. Джонни безбожно льстил, разливался соловьем. Потом, словно бы невзначай, спросил, как подвигается новый роман писателя и о чем он. Пока автор расписывал ему подробности самой захватывающей главы, он закурил сигару и, улучив удобную минуту, вставил:
― Да, любопытно было бы почитать, когда закончите. Может, прислали бы экземплярчик? Если мне подойдет, то возьму на более выгодных для вас условиях, чем те, которые предложил Вольц.
По тому, с какой готовностью писатель согласился, Джонни понял, что угадал. Джек Вольц облапошил этого человека, заплатил за книгу гроши. Он прибавил, что сразу после праздников предполагает быть в Нью-Йорке, и пригласил писателя пообедать вместе в приятной компании.
― У меня есть симпатичные подружки в вашем городе, ― заключил он весело.
Писатель рассмеялся и сказал, что согласен.
Потом Джонни Фонтейн позвонил режиссеру-постановщику и оператору только что отснятого фильма, поблагодарил за помощь во время работы над картиной. Обоим, попросив не передавать дальше, сказал одно и то же ― он знает, что Вольц был против его участия в картине, и потому вдвойне спасибо им за содействие и хорошее отношение. Отныне он их должник ― если что, пусть обращаются к нему в любое время.
Затем последовал самый тягостный звонок ― Джеку Вольцу. Джонни поблагодарил его за возможность сняться в прекрасной роли, он был бы счастлив поработать у него еще. Сказал он это лишь затем, чтобы привести Вольца в замешательство. До сих пор он никогда не ловчил, не кривил душой. Через несколько дней Вольц дознается о предпринятых им шагах и будет, после такого звонка, ошарашен его вероломством ― чего как раз и добивался Джонни Фонтейн.
Он посидел за письменным столом, праздно попыхивая сигарой. На столике поодаль стояла бутылка виски, но он ведь как будто дал слово и себе, и Хейгену больше не пить. Строго говоря, даже курить бы не следовало. Наивность, конечно: то, что стряслось с его голосом, вероятней всего, не поправишь воздержанием от курева и спиртного. Или если поправишь, то ненамного ― но, черт возьми, раз впереди забрезжила надежда, ему грешно упускать хоть бы и мизерный шанс!
Теперь, когда дом погрузился в тишину ― когда уснула его бывшая жена, уснули ненаглядные дочери, ― Джонни позволил себе оглянуться назад, на ту жуткую пору его жизни, когда он их покинул. Бросил их ради дрянной блудливой шлюхи, какою оказалась его вторая жена. Но даже сейчас он при мысли о ней не мог удержаться от улыбки: все равно она во многом была совершенно сногсшибательна, а главное, единственным для него спасением явился тот день, когда он вообще навеки зарекся ненавидеть любую женщину ― когда решил, что не может позволить себе вынашивать ненависть к своей первой жене и к дочерям, ко второй жене и всем последующим своим подругам, вплоть до вот этой самой Шарон Мур, которая так лихо оставила его с носом ради возможности похваляться перед целым светом, что отказала не кому-нибудь, а самому Джонни Фонтейну.
Он колесил по стране с джаз-ансамблем, пел свои песенки, потом выдвинулся на радио, потом ― в киноконцертах и, наконец, сделался звездой экрана. И все это время жил, как хотел, в свое удовольствие, легко сходился с женщинами, однако дом, семья оставались для него незыблемы. Но вот ему встретилась Марго Эштон, актриса, которой суждено было стать его второй женой, ― и он потерял голову. Все полетело к чертям: его карьера, голос, его семейная жизнь. Пока не наступил однажды день, когда он остался ни с чем.
Надо сказать, он был всегда великодушен и щедр. Первой жене после развода, не считаясь, оставил все, чем владел. Он позаботился, чтобы от всего, что заработано им на каждой пластинке, каждом фильме, каждом концерте, непременно шли отчисления в пользу его дочерей. В те дни, когда к нему пришли богатство и слава, его первая жена ни в чем не знала отказа. Он выручал в трудную минуту всех ее братьев и сестер, отца с матерью, школьных подруг и их родных. Никогда не корчил из себя недоступную знаменитость. Пел на свадьбе обеих жениных младших сестер, хотя страшно не любил это делать. Словом, он ей ни в чем не отказывал, пока это не ущемляло его права оставаться самим собой.
И вот, когда он уже коснулся самого дна, когда не мог больше найти работу в кино ― не мог больше петь, а вторая жена изменила ему, он как-то поздним вечером, не находя себе места от тоски, на несколько дней приехал к Джинни и девочкам. В сущности, сдался ей на милость. В тот день он прослушивал одну из своих записей ― она звучала отвратительно, он стал обвинять звукорежиссера, что тот умышленно срывает ему запись. Мало-помалу до него дошло, что он слышит свой голос неискаженным. Тогда он разбил мастер-диск и отказался петь повторно. Ему было так стыдно, что после этого он, не считая того раза, когда пел вместе с Нино на свадьбе Конни Корлеоне, не взял больше ни единой ноты.
Он не забыл, с каким выражением приняла Джинни весть о свалившихся на него бедах. Только на миг промелькнуло оно у нее на лице, но и этого мгновения хватило, чтобы навсегда его запомнить. То было выражение победного и злого торжества... Такое выражение могло означать лишь одно ― что все эти годы она таила в душе презрение и вражду к нему. Она тут же овладела собой и вежливо, хоть и сдержанно выразила ему сочувствие. Он сделал вид, будто принимает ее слова за чистую монету. Потом, в ближайшие дни, он повидался с тремя женщинами, которые долгие годы были ему милей прочих, ― он сохранял с ними дружеские отношения, мог изредка провести с одной из них ночь, что не мешало им оставаться добрыми товарищами, он помогал им, чем мог, дарил подарки, устраивал на работу ― если бы все, что он сделал для них, перевести на деньги, это составило бы сотни тысяч долларов. И на лице каждой из них он уловил теперь то же мимолетное выражение злого торжества.