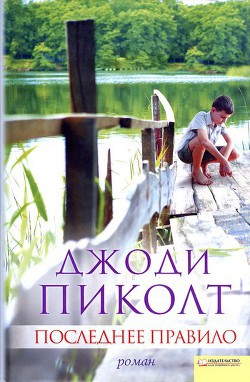Мальчишка убежал, оставив Джейкоба одного у спортивного снаряда. Я собрался было прийти брату на выручку, но он вдруг начал медленно поворачиваться. Я не мог понять, что он делает, пока до меня не дошло: ему нравится звук сухого листа, шуршащего под обутыми в кроссовки ногами.
Джейкоб на цыпочках, намеренно наступая на листья, направился к песочнице. Там две крошки — одна белокурая, вторая рыжая с двумя косичками — «пекли» из песка пиццу.
— Вот еще одна, — сказала первая девочка и шлепнула пригоршню песка на деревянный бортик, чтобы подружка могла украсить ее пеперони из камешков и моцареллой из травы.
— Привет, я Джейкоб, — представился мой брат.
— Меня зовут Анника. Когда я вырасту, то стану единорогом, — сказала белокурая малышка.
«Косички» не отрывали глаз от ряда готовых пицц.
— Моего младшего брата стошнило в ванной, он поскользнулся и упал на задницу.
— Хотите поиграть? — спросил Джейкоб. — Мы могли бы раскапывать динозавров.
— В песочнице нет динозавров, только пицца, — возразила Анника. — Мэгги украшает пиццу сыром и колбасой, а ты можешь быть официантом.
Рядом с этими девочками Джейкоб смотрится в песочнице настоящим великаном. Какая-то женщина бросает на него сердитые взгляды, и я мог бы поспорить на пятьдесят баксов, что это мама Анники или Мэгги, которая не может понять, чего ждать от тринадцатилетнего лба, играющего рядом с ее драгоценной доченькой. Джейкоб поднимает палочку и начинает рисовать на песке скелет динозавра.
— Аллозавры имели вилочки, как и остальные хищные динозавры, — говорит он. — Совсем как у куриц.
— Вот еще одна, — возвещает Анника, плюхая кучку песка перед Мэгги.
Между ними и Джейкобом существовала хорошо заметная граница. Они играли не вместе, они играли рядом друг с другом.
В этот момент Джейкоб поднимает голову и улыбается мне. Потом кивает на девочек, как будто говоря: «Эй, смотри, я завел двух друзей».
Я смотрю на маму и тут замечаю, что она плачет. Слезы катятся по ее щекам, а она даже не пытается их вытереть. Такое впечатление, что она не понимает, что плачет.
В ее жизни случались моменты, когда действительно было из-за чего плакать. Когда, например, ее вызывали к директору школы, чтобы сообщить о том, что натворил Джейкоб. Или когда у него случался приступ в людном месте — как, например, в прошлом году перед павильоном Санта-Клауса в торговом центре, и тысячи детей с родителями стали свидетелями припадка. Однако тогда моя мать даже слезинки не проронила, ее лицо оставалось непроницаемым. По правде говоря, в такие моменты мама замыкается в себе, совсем как Джейкоб.
Не знаю, почему вид брата, играющего в песочнице с двумя крошками, стал для нее каплей, переполнившей чашу. Одно я знаю: в то мгновение я почувствовал, как мир для меня перевернулся. Плакать должны дети, а мамы их успокаивать — не наоборот. Именно поэтому матери горы сворачивают, чтобы дети не видели их слез.
И тогда я решил: если мама плачет из-за Джейкоба, успокоить ее должен я.
Разумеется, мне известно, где они: мама звонила из суда. Но я не могу сосредоточиться на геометрии или основах права, пока они не вернутся домой.
Интересно, как примут мои учителя такое оправдание: «Простите, я не сделал домашнее задание, потому что мой брат был в суде в качестве обвиняемого». Учитель геометрии, конечно, тут же ответит: «Я уже тысячу раз слышал аналогичные отговорки».
Услышав звук открывающейся двери, я выбегаю в прихожую, чтобы узнать, что произошло. Входит мама, одна, и опускается на скамейку, куда мы обычно бросаем рюкзаки.
— Где Джейкоб? — спрашиваю я.
Мама медленно поднимает голову.
— В тюрьме, — шепчет она. — Боже мой, он в тюрьме!
Она все клонится и клонится, пока не складывается пополам.
— Мама?
Я трогаю ее за плечо, но она даже не шевелится. Я пугаюсь до смерти — жутко знакомое состояние. Через секунду я понимаю: этот взгляд в никуда, нежелание отвечать… Именно так на прошлой неделе выглядел Джейкоб, когда мы не могли до него «достучаться».
— Мама, перестань!
Я обхватываю ее за талию и приподнимаю. Кожа да кости. Веду ее наверх. Почему, черт побери, Джейкоб оказался в тюрьме? Неужели человеку не гарантировано право безотлагательного судебного разбирательства? Или же суд был слишком безотлагателен? Если бы я выполнил домашнее задание по основам права, то наверняка бы понял, что произошло. Одно я знаю точно: маму расспрашивать нельзя.
Я усаживаю ее на кровать, опускаюсь рядом на колени, снимаю с нее туфли.
— Ложись, — советую я. Скорее всего, именно так сказала бы она, окажись я на ее месте. — Я принесу тебе чашечку чаю, договорились?
В кухне я ставлю чайник на огонь, и меня охватывает дежавю: в последний раз, когда я это проделывал — ставил чайник, доставал пакетик чая, перебрасывал бумажный ярлычок через край кружки, — я находился в доме Джесс Огилви. То, что сейчас в тюрьме сидит Джейкоб, а я дома, — простое везение. С легкостью все могло быть и наоборот.
Одна часть меня облегченно вздыхает, отчего я чувствую себя полным ничтожеством.
Интересно, что детектив сказал Джейкобу? Зачем мама сама повезла его в участок? Возможно, именно поэтому она не в себе: это не сожаление, а чувство вины. Я ее прекрасно понимаю. Если бы я поехал к копам и рассказал, что видел в тот день Джесс Огилви живой и обнаженной, навредили бы мои слова Джейкобу или помогли?
Я, по правде сказать, не знаю, какой чай пьет мама, поэтому добавляю в него и молоко, и сахар. Несу наверх. Она сидит на постели, опираясь спиной на груду подушек. Видит меня и тут же вскакивает.
— Мальчик мой… — говорит она, когда я присаживаюсь рядом, и гладит меня по щеке. — Мой прекрасный мальчик…
Обо мне она говорит или о Джейкобе — сейчас это неважно.
— Мама, — спрашиваю я, — что происходит?
— Джейкобу пришлось остаться в тюрьме… на две недели. Он снова предстанет перед судом, когда будет решаться вопрос о его дееспособности.
Что ж, возможно, я и не семи пядей во лбу, но держать за решеткой человека, который вполне может оказаться вообще не подлежащим суду, — не лучшее, на мой взгляд, решение. Если он не в состоянии предстать перед судом, то как же он может сидеть за решеткой сейчас?
— Но… он не сделал ничего противозаконного, — говорю я и выжидающе смотрю на маму. Быть может, ей известно больше, чем мне.
Если и так, то виду она не показывает.
— Похоже, это не имеет никакого значения.
Сегодня на уроке мы обсуждали краеугольный камень нашего судопроизводства: человек невиновен, пока не доказано обратное. Бросить человека за решетку, а уже потом выяснять, что делать дальше… Это вовсе не похоже на то, что его собираются оправдать за недостатком улик. Больше смахивает на то, что его уже осудили, поэтому пусть привыкает к новому месту жительства.
Мама рассказывает, как детектив обманом заставил Джейкоба давать показания. Как она побежала за адвокатом. Как прямо у нее на глазах Джейкоба арестовали. Как он бросился на судебных приставов, когда те попытались взять его под руки.
Я не понимаю, почему этот адвокат не смог освободить Джейкоба и привезти его домой. Я прочел достаточно романов Гришема, [16] чтобы знать: так делается сплошь и рядом, особенно когда человек ранее не привлекался.
— И что теперь? — спрашиваю я.
Я имею в виду не только Джейкоба. Нас тоже. Все эти годы я жалел, что Джейкоб появился на свет, но теперь, когда его нет дома, образовалась пустота. Как я могу есть суп, зная, что мой брат где-то в камере? Как мне просыпаться по утрам? Ходить в школу? Делать вид, что в жизни ничего не изменилось?
— Оливер, так зовут адвоката, говорит, что людей чаще всего освобождают из-под ареста. Полиция находит новые улики, и первоначального подозреваемого отпускают.
Она цепляется за эту надежду, как за соломинку, за амулет, за талисман. Джейкоба освободят, и мы сможем вернуться к своей размеренной жизни. И неважно, что наша размеренная жизнь не такая уж увлекательная, и «освободят» не значит, что все случившееся забудется. Каково провести в тюрьме двадцать лет за преступление, которого не совершал, прежде чем тебя оправдают благодаря анализу ДНК. Разумеется, сейчас ты свободен, но тех прожитых двадцати лет не вернуть. Ты навсегда останешься человеком, «когда-то сидевшим в тюрьме».