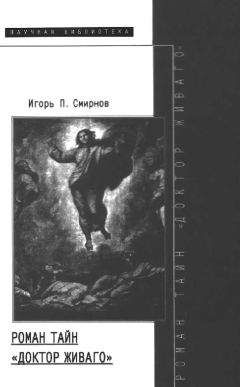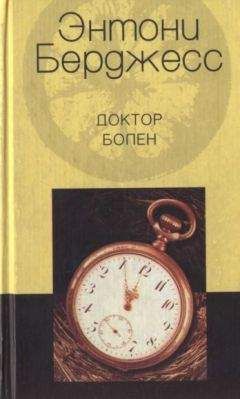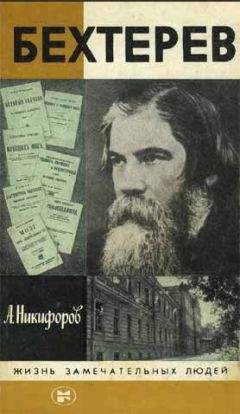наконец. Немного спустя, я уже был на улице. Здесь меня ожидала новая неприятность: вдоль высокой стены медленно брела отвратительная старуха с головой, покрытой кровью, как красным шарфом. Глаза ее смотрели на окно, за которым томился мой узник. Содрогнувшись всем телом от отвращения, ненависти и предчувствия чего-то недоброго, я отвел глаза от «безобразной твари» и быстро пошел дальше.
В одной из глухих улиц судьба подготовила мне новый сюрприз: раздирающие звуки шарманки, наигрывающей популярное здесь «Отца я зарезал», внезапно раздались над самым моим ухом. Песенка была до крайности знакома мне и яркий образ поющей с мандолиной в руках Нины предстал моему уму и охватил его, как пламенем. Образ этот явился предо мной с такой яркостью и был исполнен такой грусти и немого упрека в мертвом лице, что я ужаснулся: сердце мое болезненно сжалось. «Почти галлюцинация», — подумал я, стоя на одном месте и бессознательно глядя в открытую дверь какого-то вертепа-кабака. Я видел там, но как-то в полумраке, фигуры грузин и армян, шарманщика и несколько женщин. И вдруг на пороге кабака показалась девушка с дико смеющимся, страшно исхудалым, но дивно красивым лицом, на котором под всклокоченными волосами светились, как бирюза, ярко-голубые глаза. И я сейчас узнал ее — свою Джели или, вернее, тень ее, — до того она изменилась. Костюм ее состоял из каких-то лоскутьев, едва прикрывавших ее плечи.
Вдруг она вскрикнула и, сделав несколько прыжков, подошла ко мне.
— Мой доктор!..
Что-же я мог ей сказать? — я молчал.
— Доктор, мой доктор! ты меня давно перестал любить, целовать меня и называть своей девочкой. Разлюбил меня и погубил, сердце мое разбил в кусочки. Ты смотришь на меня — не смеешься и не плачешь, а что-нибудь надо делать; мой вид такой уже… моя мать не могла смотреть на меня без слез — горьких, горьких. Какая я — ты не понимаешь, смотри — я пляшу…
Она закружилась на месте, как волчок, и смех отчаяния сверкнул в глазах ее. Ветер вздымал ее лохмотья и обвивал ими ее гибкое тело, как флагами. Я же в это время думал: вот она, мое небесное создание, роза Рионской долины — сумасшедшая или пьяная — безразлично, во всяком случае, я нечаянно уронил красивую вещицу и она разбилась в куски.
Вдруг она остановилась, таинственно приставила палец к губам и прошептала, подойдя ко мне:
— Слушай, доктор, он там — в Куре.
— Кто?
— Сыночек — твой ребенок.
Я смотрел, охваченный ужасом и изумлением.
— Да-да, родился ребеночек и он был твой, но теперь он на дне Куры глубокой… т-сс… никому не говори.
Зубы ее стиснулись, в то время как глаза отчаянно засмеялись.
— Ты меня отбросил от себя, как падаль. Ты из камня сотворен, русский человек, из камня. Я подумала, что твой ребеночек такой же каменный и убьет меня, блудницу, свою мать. Он только родился, и я сейчас хотела разбить его голову… но он запищал, и я позволила, чтобы он пил мою грудь, как ты меня пил, пока, упившись, <не> отбросил пустой сосуд… Но отец меня выгнал, а я горда — не пошла к тебе. Вот что я сделала, знаешь: упала на мостовую и так лежала с твоим сыном, кто хотел, покупал меня. Ребенок меня мучил, лицо его — твое и загорелось сердце мое… Подошла к Куре… Луна и звезды смотрели на меня, положила его — поплыл по волнам… На дне реки он, доктор… Там собери его кусочки и сделай себе… скелетик…
Она страшно засмеялась и, в порыве отчаянного веселья, что-то запела и закружилась в дикой пляске. Я не смотрел на нее больше: я бежал… В ушах моих звенела шарманка и пьяные голоса.
Была ночь. Свечи освещали большую спальню, мешаясь с сиянием лунных лучей, врывающихся в окна и бросающих фантастические узоры на стены.
Тамара сидела в кресле неподвижно, с мрачно нахмуренными бровями, под которыми светились злые, устремленные вдаль глаза. Вдруг она сказала:
— За твоей спиной две могильные тени, Кандинский — слева и справа. Тебе не страшно?
Резким движением она повернулась ко мне всем телом, глядя на меня со страхом и любопытством.
— Ты суеверна, мой ангел. Когда я буду способен чувствовать ужас, тогда — прощай, Кандинский.
— Может быть, ты хочешь сказать этим, что убьешь себя?
— Нет, я совсем не расположен это делать, точно так же, как чувствовать ужас или раскаяние — стадные чувства, понятные в Иване и Петре, но когда их почувствует Кандинский — прощай: останется животное большого стада. Я не Иван и не Петр, я — Кандинский.
— Какие гордые слова!
Она долго смотрела на меня неподвижно.
— Так ли это?
— Полагаю, да.
— Ты полагаешь, что ты так велик, а может быть, это только великая твоя низость — и ничего больше.
Слова эти уязвили меня.
— Наши две жертвы убиты моей идеей, Тамара, а вовсе не мной — для нашего блаженства.
— Как это?
Я не счел нужным разъяснять ей.
— Как же ты говорил, что делаешь это из любви ко мне? — спросила она, расширяя глаза, в которых засверкали злые огоньки. — Или… постой, может быть, тебе была нужна не я, а богатства князя и ты хотел сделаться моим мужем с этой целью? Ха-ха-ха!.. Ты никогда им не будешь.
— Последние твои слова совсем вздор, Тамара.
И я говорил правду. Корыстные побуждения, овладевавшие мной вначале, стали постепенно рассеиваться по мере того, как мной все глубже начинали овладевать мои мысли и страсть к моей союзнице.
— Слушай. Прежде, чем мы встретились с тобой, в моем уме зародилась идея… Это она убила… этих, а не я…
— Прочь, ужасный человек, — вскричала она, подымаясь с места и выпрямляясь во весь рост. — Безумная, я поверила, что одна безграничная любовь тебя доводит до низости отравления — и прощала; но ты, ужасный человек, объявляешь теперь, что какая-то дикая идея руководила тобой, а не любовь…
— Ты чрезвычайно эффектна в эту минуту, мой ангел, — проговорил я, любуясь ею.
— В тебе все фальшиво, изломанный, жалкий человек. Мне надо было раньше понять, что ты готов делать всякую низость под влиянием твоих гадких мыслей, как лунатик. Ты не любил меня?
— Нет… — вырвалось у меня нечаянно, по чувству противоречия; но она, видимо, научилась понимать меня и, к моему удивлению, успокоившимся тоном сказала, опускаясь в кресло:
— Нет, ты лжешь и сам не знаешь, что говоришь. Твое самолюбие колоссально, Кандинский, и ты знаешь сам, что ты не в силах меня