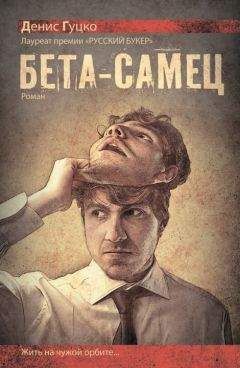– ...Буду иметь в виду, конечно. Я должен предупредить вас, что есть и другие, которые интересуются этой вещью.
– А если через три дня? – спросил Кемп. Голос его был медленнее и глубже.
– Это было бы отлично. – И затем мужчина назвал адрес в Манхэттене, название своей галереи, сделав это дважды, чтобы убедиться, что Кемп его верно понял.
– В три часа, – предложил Кемп.
Последовало молчание, и Кэлли услышал резкий шелест перелистываемых страниц. Затем собеседник Кемпа сказал:
– Меня это устраивает, – и сделал паузу, вероятна записывая. Потом он сказал: – Она должна была пойти на аукционную продажу, вы ведь понимаете это?
– У вас есть стартовая цена?
– Разумеется.
– Мы потолкуем об этом, мистер Брайант. А больше всего мне хотелось бы увидеть этот эскиз.
– Я понимаю. Значит, до трех часов в пятницу.
Затем трубку повесили, и послышался другой разговор. Голос Кемпа был слышен не менее ясно, чем во время телефонного разговора. Он сказал:
– Я поеду в Нью-Йорк в среду. Есть кое-что еще, о чем надо позаботиться.
– Вернешься вечером в пятницу? – спросил, как полагал Кэлли, Генри Глинвуд. Его легкий голос ритмично понижался в конце слогов.
– Да.
– Он не назвал цену?
– Нет. Но он пока и не должен был. У меня уже были сделки с Брайантом раньше. Он сделал ошибку, подпустив меня к начальной стадии, когда предлагал Писсаро. Я гарантировал стартовую цену до тех пор, пока не получу последнего отказа, а он выставлял на аукцион эту картину. Другие покупатели разузнали, что я мог бы перекрыть предлагаемые ими цены, и никто не пришел на торги. И я купил картину по цене своего первого предложения.
– Это ты сам дал знать другим, – сказал Глинвуд.
Смех Кемпа был полон неподдельного наслаждения. Отсмеявшись, он сказал:
– Он это подозревал, но, конечно, не смог бы доказать.
– Стало быть, он тебя недолюбливает.
– Так он и не обязан меня любить. Он любит мои деньги, и этого вполне достаточно.
После паузы донесся звон бокала о бокал.
– Не клади туда льда, – сказал Кемп и чуть позже добавил: – Отлично, Генри.
– Пятница, – сказал Глинвуд. Он высказал предположение насчет времени полета, и Кемп согласился с ним. – У меня есть для тебя кое-какие документы на подпись. Долевые передачи.
– Завтра.
Последовал стук бокала, поставленного на стол, а потом захлопнулась дверь. Оставшись в одиночестве, Кемп издал тихий вздох, за которым последовал заглушаемый одышкой смех. Эти звуки как бы говорили: Глинвуд мне нужен, но он мне надоел. Послышались шаги по деревянному полу, потом ноги вступили на ковер, и шаги стихли. И в этой тишине раздались первые звуки концерта для флейты, переливчатые и удивительно ясные.
Кэлли повесил трубку, а потом набрал номер Майка Доусона. Доусон ответил только на четырнадцатый звонок. Голос его звучал так, словно он был под водой.
– Только, пожалуйста, не спрашивай меня, – сказал Кэлли, – знаю ли я, который час.
– Я уверен, что ты совершенно точно знаешь, который час, ублюдок.
– Ты один?
Последовало молчание, означавшее, что Доусон либо рассержен, либо позабавлен, возможно, и то и другое вместе.
– Я ведь красивый парень, – сказал он. – У меня еще сохранились все волосы и большинство зубов. Но из этого не следует, что моя жизнь – это марафонский забег, состоящий из отчаянного траханья.
– По слухам, дело обстоит несколько иначе.
– Ну, что стряслось? – засмеялся Доусон.
– А я как раз именно это и собирался у тебя спросить.
– Все спокойно. Ничего. Подожди-ка минутку.
Шорох постельного белья, а потом молчание. Кэлли выглянул из окна. Окруженная аркадами дорожка с трех сторон обрамляла внутренний дворик, арки подпирали белые колонны, на каждой из которых был светильник. С вершины фонтана струилась вода безукоризненным круглым водопадом, она с тихим плеском спускалась с уступа на уступ и в свете фонарей была полупрозрачной. Доусон вернулся к телефону минуты через две-три.
– Что это такое было? – спросил Кэлли.
– Ну, ты же меня разбудил, вот мне и пришлось сбегать в сортир. Ничего... – Доусон как бы подцепил конец оборванного разговора. – Больше никаких убийств и никаких зацепок тоже. Но это не означает, что прекратилась эта кутерьма. Всеобщее мнение, кажется, состоит в том, что поскольку этот ублюдок решил прекратить убивать людей, он может так и остаться неизвестным, жить себе на свободе, наслаждаться жизнью и посмеиваться в рукав над полицейскими оболтусами, пока... Ну, пока он не решит, что настало время еще немного поразвлечься со скорострельной винтовкой.
– Чье же это всеобщее мнение?
– Газет, телевидения и остальных.
– А Протеро?
– Так откуда, ты думаешь, они взяли эту идею? Когда у него берут интервью, он переходит от оправданий к сожалению и обратно, что-то в этом роде. Звучит чертовски патетично. А мы тем временем работаем по пятнадцать часов в день, и результата никакого. Некуда двигаться, понимаешь? Они сократили оперативную группу более чем наполовину.
– Идея в том, что он остановился навсегда?
– Нет, на время.
– Ну я это и имел в виду. Остановился.
– А что у тебя?
– Я еще не уверен, – сказал Кэлли. – Слишком рано говорить.
– И вот это ты и собираешься сообщить в докладе, который Протеро все еще не получил?
– А он что, намекал на это?
– О да! Еще как намекал! Он пытался дозвониться в гостиницу, но не застал тебя.
– Слишком дорого, – сказал Кэлли. – Большие расходы для налогоплательщиков.
– До тебя так просто не доберешься, – засмеялся Доусон.
– Да, ничего не изменилось, – согласился Кэлли. – Спокойной ночи, Майк.
Ответ Доусона долетел с некоторого расстояния: он держал трубку в стороне от рта, говоря кому-то:
– Пожелай Робину спокойной ночи.
– Спокойной ночи, Робин, – донесся женский голос, сонный и глуховатый, звуки размазывались, словно губная помада от поцелуя.
Кэлли набрал номер Элен. Он был занят. Спустя десять минут Кэлли проделал это снова и с тем же результатом. Он набрал номер Кемпа и услышал молчание, слегка прерываемое сонным сопением. Он снова попробовал позвонить Элен. Номер соединился, но никто не поднимал трубку.
Судья в фетровой шляпе и разорванной куртке, толстая женщина, бережно баюкающая на руках своего петуха, букмекер, подобно автомату кивающий, поворачивающийся и снова кивающий. Кэлли чувствовал себя так, как будто возвратился в зрительный зал после первого антракта. Режущие глаза тени от ламп, рвущийся на арену золотисто-синий петух с подстриженными крыльями и стальной шпорой...
Айра Санчес подождал, пока хозяева птиц войдут в круг, и тогда перехватил пристальный взгляд букмекера. Кэлли передал Санчесу двадцатидолларовую бумажку и сказал:
– Десять твои, а десять – мои.
Хозяином синего петуха был тощий малый в соломенной шляпе и рубашке типа тех, что носят выступающие в родео ковбои. Двойные манжеты болтались у него на запястьях, а сквозь бахрому на рубашке были видны убогие заплатки. Малый толкнул голову своей птицы к черно-красному противнику, и вот уже оба петуха принялись буравить друг друга клювами, как скальные буры.
– Он может драться хоть три дня, если выдержит, – сказал Айра.
– Но мы все же ставим на синего?
– Конечно, отлично работает крыльями, прекрасная устойчивость. И еще кое-что. Видишь, этот розовый гребень и розовую бородку? А это значит, что в нем откуда-то есть кровь черной игры. А это не птицы, а прямо машины для убийства. Они готовы пойти с голыми шпорами хоть на паровоз. Все пока, как и должно?
– Работает отлично, – сказал Кэлли.
– Разузнал то, что хотел?
– Кое-что из этого.
Судья дал знак носовым платком, и хозяева выпустили птиц. Они начали ходить по кругу, словно прицеливаясь друг в друга. Шум вокруг арены заставил Кэлли и Санчеса замолчать. Все это напоминало пробуждение в какой-то незнакомой комнате, когда вы еще не вспомнили, как оказались там. Внезапное замешательство и приступ паники. В какое-то мгновение все обретает смысл, а в следующее все кажется незнакомым. Зрители, вопящие и толкающие друг друга локтями, чтобы выбрать место получше, поющее шипение карбидных ламп, два петушка на арене, падающих, встающих и наносящих друг другу разящие удары. Кэлли чувствовал себя так, как будто его избил до потери сознания некто невидимый, какая-то тень. Он не мог даже припомнить имени мужчины, стоявшего рядом с ним.
Он повернулся, приподняв одну руку, словно у него были завязаны глаза. В его ушах звенели крики и свист. Кэлли оказался спиной к арене в окружении чьих-то лиц. Он повернулся снова. Санчес всем телом подался вперед, сконцентрировав внимание на схватке, лицо его было лишено какого-либо выражения. Кэлли что-то говорил, хотя и не имел никакого представления о содержании своих слов, а шум был слишком велик, чтобы он мог разобрать их на слух. Он ощущал холод в животе, словно там остановилась кровь, в голове шипело, как в этих ослепляющих белым светом лампах, и было пусто.