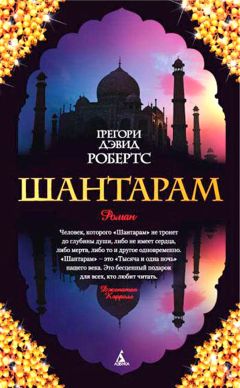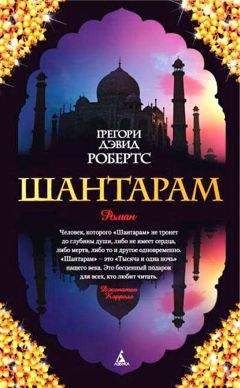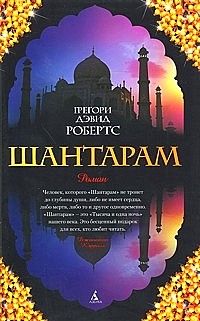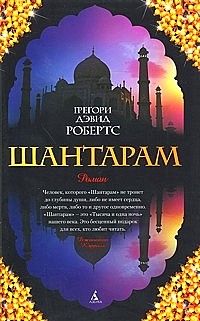Казим Али, сидевший в тени на пороге одной из хижин, подозвал к себе Прабакера и распорядился, чтобы послали за друзьями и родственниками Джозефа, а также родственниками Марии, его жены. Прибывшие сменили уставших молодых людей, и начался новый круг мучений Джозефа. В течение нескольких часов его друзья, соседи и родственники по очереди поносили его и колотили той же палкой, которой он так безжалостно избил жену. Били Джозефа больно, но так, чтобы не нанести серьезных увечий. Наказание было суровым, но не выходило из границ разумного.
Я ушел в свою хижину, несколько раз возвращался, а экзекуция продолжалась. Многие обитатели трущоб, проходившие мимо, останавливались, наблюдая за этой сценой. Люди по желанию вставали в круг карателей и покидали его. Казим Али сидел на том же месте с суровым выражением, не отводя взгляда от происходящего и следя за тем, чтобы наказание вершилось непрерывно, но не было чрезмерным.
Джозеф еще дважды терял сознание. Когда, наконец, избиение прекратилось, он был сломлен. В нем не осталось ни озлобленности, ни способности сопротивляться. Он рыдал, снова и снова повторяя имя своей жены:
— Мария, Мария, Мария…
Казим Али поднялся и подошел к Джозефу. Наступил момент, ради которого и проделывалось все предыдущее. Казим кивнул Виджаю, и тот принес из ближайшей хижины теплую воду, мыло и два полотенца. Те же люди, которые избивали Джозефа, теперь вымыли его лицо, шею, руки и ноги, причесали его и дали питьевой воды. Они впервые за последние часы заговорили с ним ласково, обнимая и похлопывая по плечам. Ему объяснили, что если он раскаивается в своем поступке, то его простят и помогут ему. Все по очереди подходили к нему, чтобы он коснулся их ног. На него надели чистую рубашку и усадили, заботливо поддерживая. Казим Али присел на корточки напротив Джозефа и заглянул в его налитые кровью глаза.
— Твоя жена, Мария, не умерла, — сказал он мягко.
— …Не умерла? — тупо переспросил Джозеф.
— Нет, Джозеф, она очень сильно пострадала, но осталась в живых.
— Господи, благодарю тебя! — воскликнул он.
— Твои родные и родные твоей жены договорились, как с тобой поступить, — произнес Казим медленно и твердо. — Но прежде всего скажи, ты сожалеешь о том, что ты сделал со своей женой?
— Да, Казимбхай, — заплакал Джозеф. — Я сожалею, я так сожалею…
— Женщины решили, что ты не должен видеть Марию в течение двух месяцев. Она в очень тяжелом состоянии. Ты чуть не убил ее, и ей нужны эти два месяца, чтобы поправиться. Ты же в это время будешь ежедневно работать больше, чем обычно, а заработанные деньги будешь копить. И разумеется, ни капли дару или пива, ни чая, ни молока, — ты не будешь пить ничего, кроме воды. Это будет часть твоего наказания. Понятно?
Джозеф слабо помотал головой в знак согласия:
— Понятно, да…
— Ты должен также знать, что мы даем Марии право отказаться от тебя, если она захочет. Если она решит по истечении двух месяцев развестись с тобой, я помогу ей в этом. Но если она останется с тобой, ты отвезешь ее отдохнуть в прохладные горы на те деньги, которые заработаешь в это время. Находясь с женой в горах, ты обдумаешь все, что произошло по твоей вине, и постараешься преодолеть зло в себе. Иншалла, ты сможешь обеспечить счастливое и достойное будущее для себя и своей жены. Так мы постановили. Это все. Теперь иди, поешь и ложись спать.
С этими словами Казим Али встал и удалился. Друзья Джозефа помогли ему подняться и проводили домой. Хижину к этому моменту прибрали, все вещи Марии и ее одежду унесли. Джозефу дали гороховой похлебки с рисом. Поев немного, он улегся на свой тонкий матрас. Два его друга, сидя рядом, обмахивали его зелеными бумажными веерами. Джонни Сигар подвесил окровавленную бамбуковую палку на столбе возле хижины Джозефа, чтобы все могли ее видеть. Там она должна была оставаться в течение всего двухмесячного исправительного срока.
В одной из хижин неподалеку включили радио, и мелодия индийской любовной песни поплыла над закоулками и канавами поселка. В другой хижине плакал ребенок. На том месте, где недавно проводилась экзекуция, ковырялись в земле и кудахтали куры. Слышно было, как где-то смеется женщина, играют дети, торговец браслетами зазывает покупателей своей неизменной присказкой: «Браслет — это красота, вся красота мира в браслетах!»
Мир и порядок в трущобах были восстановлены; я направился кривыми проулками в свою хижину. С причала Сассуна возвращались домой рыбаки с корзинами, полными морских запахов. Навстречу им — доказывая, что жизнь в трущобах не обходится без контрастов, — шли продавцы благовоний, наполняя воздух ароматами сандалового дерева, роз, жасмина и пачулей.
Я думал о том, чему стал свидетелем в этот день, о том, как двадцать пять тысяч жителей этого селения-государства сумели организовать свою жизнь без участия полиции и прочих правоохранительных органов, без судебных приговоров и тюрем. Я вспомнил слова, сказанные Казимом Али несколько недель назад, когда Фарук и Рагхурам в наказание за свои грехи работали целый день в туалете, привязанные друг к другу. Вымывшись после работы горячей водой и надев чистые набедренные повязки и рубашки, они предстали перед собранием своих родных, друзей и соседей. Ветер с моря раскачивал уличные фонари, и отблески огня перескакивали из одних глаз в другие, а по тростниковым стенам хижин метались тени. Казим Али огласил решение, вынесенное представителями двух основных индийских религий: в наказание за свою религиозную распрю мусульманин Фарук должен был выучить наизусть одну из индуистских молитв, а Рагхурам — одну из мусульманских.
— Это решение — образец истинного правосудия, — сказал Казим Али в тот вечер, а глаза его цвета древесной коры с теплотой глядели на двух юношей. — Ибо оно справедливо и предполагает прощение проступков. Справедливость будет восстановлена только тогда, когда все почувствуют моральное удовлетворение — даже тот, кто оскорбил нас и должен быть наказан. На примере этих двух мальчиков вы можете видеть, что правосудие — это не только наказание провинившихся, но и попытка спасти их.
Я записал эту маленькую речь Казима Али в свой блокнот и запомнил ее наизусть. Вернувшись к себе в тот день, когда пострадала Мария и был наказан Джозеф, я открыл черную тетрадь, чтобы еще раз прочесть записанное. Где-то неподалеку сестры и подруги Марии ухаживали за ней, стараясь облегчить ее страдания, а Прабакер и Джонни Сигар несли вахту у храпящего тела ее мужа. Вечерние тени все больше удлинялись, пока не слились в сплошную темноту, не принесшую прохлады. Я размышлял, вдыхая воздух, пропитанный пылью и запахами тысяч кухонь. Было так тихо, что я слышал, как пот капает с моего скорбного лица на страницы дневника, орошая, будто слезами, одно слово за другим: «справедливость… прощение… наказание… спасти…»
Прошла неделя, за ней еще три, за первым месяцем еще четыре. Время от времени, бродя по улицам Колабы по делам своих иностранных клиентов, я встерчал Дидье, Викрама и их друзей из «Леопольда». Иногда я видел и Карлу, но ни разу не подошел к ней. Я не хотел смотреть ей в глаза, пока я был беден и жил в трущобах. Бедность и гордость неразлучно сопровождают друг друга, пока одна из них не убьет другую.
С Абдуллой я тоже не виделся вот уже месяц, но он то и дело присылал ко мне необычных, а то и вовсе странных гонцов. Однажды я делал записи за столом в своей хижине, как вдруг меня отвлек от этого занятия такой бешеный лай всех трущобных собак, какого я никогда еще не слышал. В нем был страх и неописуемая ярость. Я отложил ручку, но из хижины не стал выходить. Порой собаки бесновались по ночам, но днем такого еще не случалось. Спокойно заниматься своим делом в этом бедламе было невозможно. К тому же его эпицентр медленно, но верно приближался к моей хижине, и сердце у меня стало биться чаще.
Лучи утреннего солнца, проникавшие внутрь сквозь многочисленные щели в стенах, стали дрожать и колебаться, когда их пересекали тени людей, сновавших мимо хижины. К собачьему хору присоединились взволнованные человеческие голоса. Я огляделся в поисках какого-нибудь средства самозащиты. Единственным подходящим предметом была толстая бамбуковая палка. Я схватил ее. Тем временем лай и крики достигли моих дверей.
Я распахнул тонкую фанерную дверь, и палка выпала у меня из рук. В полуметре от меня стоял на задних лапах огромный бурый медведь. Зверь возвышался надо мной, заполняя дверной проем своей могучей косматой шерстью. Стоял он твердо и уверенно, передние лапы болтались на уровне моих плеч.
Собаки буквально сходили с ума. Не решаясь приблизиться к зверю, они давали выход своей ярости, набрасываясь друг на друга. Медведь же не обращал никакого внимания ни на собак, ни на возбужденную толпу людей. Наклонившись ко мне, он стал всматриваться в мое лицо большими глазами цвета топаза. Взгляд их был вполне разумным. Медведь зарычал, но это был не угрожающий рык, а раскатистое урчание, которое показалось мне более вразумительным, чем хаос, царивший у меня в голове, и действовало, как ни странно, успокаивающе. Мой страх сразу улетучился. Стоя почти вплотную к медведю, я чувствовал, как его урчание волнами отражается от моей груди. Зверь еще ближе наклонился ко мне, его морда была всего в нескольких сантиметрах от моего лица. Слюна стекала из его пасти по влажному черному подбородку. Медведь не замышлял против меня ничего плохого. Не знаю почему, но я был в этом уверен. В глазах его читалось что-то совсем иное. В этот напряженный момент он словно хотел поведать мне взглядом свою печаль, не разбавленную рассудочностью, глубокую и чистую. Это длилось всего несколько секунд, но мне казалось, что гораздо дольше, и, главное, я не хотел, чтобы это прекращалось.