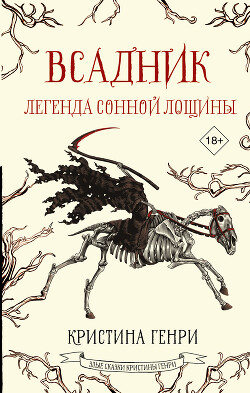времени в том месте, где Бром никогда не умирал. Я не знаю, что с этим делать, что чувствовать. Бром погиб, потому что пошел за мной, потому что спасал меня от Крейна. Значит, вина за смерть Брома лежит на мне, хотя Катрина никогда этого и не говорила.
Если ей хочется жить среди воспоминаний о Броме, разве имею я право вытаскивать ее оттуда? Разве это честно, разве правильно? Ведь она этого хочет. Хочет быть с Бромом.
Но я чувствую себя одиноко, будто снова теряю деда.
И боюсь, что однажды, вернувшись домой, найду Катрину бездыханной и неподвижной, с повернутым к окну лицом и пустыми, уже ничего не видящими глазами – и тогда действительно останусь в одиночестве.
Но этот день еще не пришел.
Катрина, вздрогнув, устремляет на меня свои голубые глаза:
– Бен. Рада, что ты дома.
Я подхожу к ней, опускаюсь рядом на колени, беру ее руку правой рукой. Моя левая рука после стычки с Крейном всегда затянута в кожаную перчатку. Людям мы говорим, что у меня сильный ожог и что я ношу перчатку для защиты. Снимаю я ее только ночью, в своей комнате, и каждый раз содрогаюсь при виде торчащих костей.
Рука Катрины кажется мне как никогда маленькой и хрупкой, как птичья лапка. В свои двадцать четыре я возвышаюсь над ней – не так, конечно, как Бром, и плечи у меня совсем не такие широкие, но шесть футов – это шесть футов, и пропорции они подразумевают соответствующие. Рядом со мной Катрина выглядит куклой, тем более что после ухода Брома она совсем съежилась, уйдя в себя. И ест она как мышка, а не как взрослая женщина.
– Ты что-нибудь ела? Я могу разогреть немного супа.
Лотти умерла внезапно, от горячки, два года назад. Она была последней из наших слуг, и других мы так и не наняли. Всех слуг мы с Катриной постепенно распустили, точно так же, как распродали землю, как избавились от большей части мебели и закрыли большую часть комнат нашего огромного дома.
И остались мы с Катриной одни. Мы с ней – да пара открытых дверей. От некогда обширных угодий мы сохранили лишь несколько акров у дома. Из окна видно чужих людей, обрабатывающих поля, которые когда-то были нашими, поля, по которым ходил некогда Бром, повелитель всего окрест – и по которым когда-то хотелось пройтись вот так же и мне.
Но это давно перестало быть моей мечтой. Меня с землей уже ничто не связывает.
– Супа, – повторяет Катрина и снова смотрит в окно.
Теперь она все чаще бывает такой, рассеянной, отрешенной. Иногда мне кажется, я отдам что угодно за ее острый язычок, так часто бранивший – и так раздражавший – меня в детстве. Но, ругайся она, стало бы по крайней мере понятно, что Катрина все еще тут, в этом сморщенном теле.
– Я разогрею суп, а потом мы поедим. – Я поднимаюсь, глядя на нее.
– Хорошо.
Катрина опускает взгляд и, кажется, удивляется, обнаружив на коленях свое шитье, а в руке – иголку. И сразу начинает старательно тыкать ею в ткань, словно занималась этим все время.
Живот скручивает, желчь подкатывает к горлу. Мне страшно. Мне кажется, что я живу с призраком, с тем, кто погружен в жизнь лишь наполовину, а наполовину витает где-то вовне.
В коридоре, ведущем к кухне, у меня возникает привычное ощущение – что Бром вот-вот появится здесь, громыхнет басом: «Я дома!» – и раскинет объятия, чтобы подхватить меня и подбросить в воздух.
Но Брома нет. Не снуют по дому слуги, не хлопочет на кухне Лотти, всегда готовая подсунуть мне угощение. Только я, только скрип старых половиц под ногами…
Я разогреваю остатки вчерашнего супа, нарезаю испеченный с утра хлеб. К моему удивлению, печь у меня получается неплохо. Этому искусству меня научила Лотти незадолго до смерти. Она сказала, что, раз у меня большие и сильные руки, мне будет легко замешивать тесто. То был первый раз, когда кто-то оценил преимущество моих размеров.
Тарелки с супом я ставлю на кухонный стол. Раньше тут ели слуги, теперь – мы с Катриной. Нет никакого смысла суетиться, носить еду в столовую, ведь мы уже не устраиваем грандиозных трапез, а в столовой, как и в любой другой комнате дома, трудно избежать ощущения, что Бром рядом, хохочет и накладывает себе на тарелку такую гору еды, какую, кажется, не съесть никому и никогда.
В любом случае кухня остается одним из немногих чистых помещений. Большую часть мебели мы прикрыли чехлами, а то, что не прикрыли, потихоньку зарастает пылью. Я к домашнему хозяйству равнодушна, а Катрина, похоже, просто забыла о необходимости поддерживать порядок.
Оставив суп на плите, возвращаюсь к Катрине, которую вечно приходится уговаривать поесть хоть немного. Она снова смотрит в окно, забыв на коленях рукоделие.
Он не придет. Он не придет, но я все еще здесь. Пожалуйста, побудь со мной.
Мне немного стыдно за это чувство, ведь я уже не ребенок, я взрослый человек. Мне не нужно, чтобы она присматривала за мной, но мне хочется, чтобы она меня хотя бы видела. Она ведь по-прежнему моя ома, женщина, которая меня вырастила, которая боролась со мной, и обнимала меня, и любила меня, и в конце концов приняла меня.
А теперь она ускользает от меня, уходит туда, куда уже ушел Бром.
– Ома?
Она отводит взгляд от окна:
– Бен?
Как же мне ненавистен этот вечный вопрос в ее голосе, как будто она сомневается, кто я, как будто не знает, который Бен стоит там у дверей.
– Пора поесть.
– Я не голодна. – Бабушка снова отворачивается к окну.
Подойдя к ней, снимаю с ее коленей шитье и убираю его в корзинку. Потом, опустившись на колени, беру обе ее руки в свои. Кожа Катрины мягкая, тонкая, как лепесток розы, а хрупкие пальцы кажутся почти бесплотными.
– Просто немного хлеба с маслом. – Я осторожно поднимаю ее на ноги.
Несколько секунд она стоит неподвижно, глядя на меня, и что-то в ее глазах меняется. Сейчас она, кажется, действительно здесь и видит меня, а не что-то, случившееся годы назад.
– Ты так похожа на него, – говорит она, и губы ее трогает слабая улыбка, почти призрак улыбки, но она давно уже не улыбалась так. – Лицом. Я вижу его в твоем лице, в твоих глазах. Но ты не такая громкая. Он был громким, верно?
– Его голос громыхал на весь дом. – Поддерживая Катрину, я веду