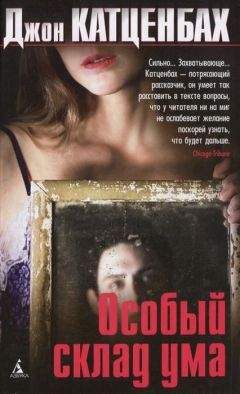Он покачал головой:
— Нет, он ни разу не упоминал ни о ком, кто бы относился к названным вами категориям лиц. Но я искренне сомневаюсь, что он покончил с собой. Его состояние определенно не было настолько тяжелым. Запишите это и включите в ваш отчет.
Детектив Риггинс пожала плечами и с нескрываемой усталостью улыбнулась.
— Ваше мнение уже записано, доктор. — Она улыбнулась еще раз. — Готова поспорить, что в его личных вещах я откопаю предсмертную записку. Или, может быть, вы на этой неделе получите письмо. Если так, сделайте копию, чтобы я включила ее в отчет, хорошо, док?
Она покопалась в ящике стола, достала визитную карточку, которую не без напыщенности вручила ему. Рики, не взглянув на карточку, сунул ее в карман и встал, намереваясь уйти. Он быстро пересек офис сыскного отдела и уже в дверях, оглянувшись, увидел, что детектив Риггинс, склонившись над старенькой пишущей машинкой, начала выстукивать отчет, посвященный заурядной и, судя по всему, беспричинной смерти Роджера Циммермана.
Было уже утро, ночь выдалась неспокойная. Спал Рики мало, ему снилась покойница жена, сидевшая рядом с ним в красной двухместной спортивной машине. Машина стояла в глубоком песке у самого океана — дело происходило неподалеку от их летнего коттеджа на Кейп-Коде.
Он надел старую синюю рубашку и вылинявшие, обмахрившиеся понизу брюки цвета хаки. Вот уже многие годы, просыпаясь первого августа, Рики с ликованием влезал в потрепанную одежду — то был знак, что он сбрасывает с себя тщательно продуманный образ психоаналитика с Верхнего Ист-Сайда и отбывает в отпуск. Отпуск был временем, когда он мог пачкать руки в грязи, копаясь в саду в Уэлфлите, бродить по пляжу, не обращая внимания на песок, забивающийся между пальцами ног, и читать дешевые детективные романы. Впрочем, нынешний отпуск ничего подобного не предвещал.
Рики поплелся на кухню. Там он сунул в тостер единственный ломтик сухого пшеничного хлеба и сварил кофе. Он сгрыз тост, затем отнес кофе в кабинет, выложил на стол письмо Румпельштильцхена и, присев, уставился на густо исписанный лист. На миг у него закружилась голова.
— Это еще что такое? — вслух спросил он себя.
Мысль о том, что Циммермана толкнули под поезд только для того, чтобы сделать Рики внушение, была нестерпимой. Он вообразил, как возвращается в залитый слепящим светом офис детектива Риггинс и объявляет, что неизвестные ему люди убили человека, которого они даже не знают, чтобы заставить его, Рики, принять участие в некой смертельной игре. Даже если детектив Риггинс не высмеет его — а она это сделает, — что может заставить ее поверить диким россказням врача, который предпочитает дурацкое, едва ли не вычитанное в каком-то детективном романе объяснение очевидному факту самоубийства?
Он понимал, что в жизни его наступил критический момент. За часы, прошедшие с появления в его приемной письма, Рики оказался вовлеченным в череду событий, осмыслить и упорядочить которые он решительно не способен. Для анализа требуется пациент, а пациента у него нет. Требуется также время, а времени мало. Оставшиеся четырнадцать дней представлялись ему сроком невозможно коротким. На секунду Рики представил себе ожидающего казни заключенного, которому сообщают, что губернатор штата подписал его смертный приговор, и называют дату и время казни. Ужасно. Одно из величайших благ существования, подумал он, состоит в том, что мы не знаем, сколько дней нам отпущено. Ему показалось, что календарь на письменном столе усмехается.
Он взял со стола письмо и перечитал стишок. Это ключ, сказал он себе. Ключ, предоставленный психопатом.
Папа, мама и деточка малая.
Так, подумал Рики, автор письма использует слово «деточка», которое не указывает на пол. Уже интересно.
Когда папаша отплыл за моря.
«Отплыл» может иметь и буквальное, и символическое значение, однако в любом случае семью отец бросил. По какой бы причине он ни оставил жену и ребенка, Румпельштильцхен не мог ему этого простить. Скорее всего, брошенная мужем мать растравляла его. А Рики сыграл какую-то роль в зарождении ненависти, которой понадобились годы, чтобы стать убийственной. Но какую? Румпельштильцхен, решил Рики, был ребенком его пациента.
Интересно, сколько времени требуется, чтобы обиженный человек превратился в убийцу? Десять лет? Двадцать? Одно мгновение?
Этого он не знал, однако подозревал, что вскоре узнает.
Рики снова принялся за составление списка. Он взял десятилетний период — с 1975 года, в котором он здесь поселился, по 1985-й — и начал выписывать имена всех, кто лечился у него за это время. Дело было относительно простое: он выписывал имена долгосрочных пациентов, сомневаясь, впрочем, что человек, прошедший длительный курс лечения, мог породить того, кто ему теперь угрожал.
Румпельштильцхен был ребенком человека, отношения с которым оказались недолгими. Человека, резко прервавшего курс лечения. А припомнить таких пациентов Рики было гораздо труднее.
Он сидел над блокнотом и корил себя за то, что слишком неряшливо вел записи. Было уже около полудня, когда кто-то позвонил у его двери. Звонок словно вырвал Рики из транса. Он встал, пересек кабинет, приемную и с опаской приблизился к двери. Посмотрев в глазок, Рики увидел молодого человека в пропотевшей синей рубашке службы «Федерал экспресс»; в руке он держал конверт. Рики повернул ручку замка и приоткрыл дверь, оставив ее на цепочке.
— Да? — произнес он.
— У меня письмо для доктора Старкса.
Рики поколебался:
— Удостоверение у вас какое-нибудь есть?
Молодой человек вздохнул и показал приколотую к рубашке забранную в пластик карточку с именем и фотографией.
— Сможете прочитать отсюда? — спросил он. — Мне нужна только ваша подпись.
Рики неохотно распахнул дверь:
— Где расписаться?
Посыльный протянул ему папку.
— Вот здесь, — сказал он.
Рики расписался. Посыльный передал ему небольшой картонный конверт.
— Приятно провести день, — сказал посыльный на прощание.
Рики немного помешкал в двери, разглядывая наклейку на конверте. Письмо было из нью-йоркского Общества психоаналитиков. Он отступил в приемную, запер за собой дверь, вскрыл конверт. В конверте оказались два листка бумаги. Письмо было послано президентом Общества, врачом, о котором у Рики имелись довольно смутные представления.
Дорогой доктор Старкс!
С большим сожалением вынужден сообщить Вам, что Общество психоаналитиков получило серьезную жалобу, касающуюся Ваших взаимоотношений с одним из Ваших прежних пациентов. Копию жалобы я прилагаю.
Как того и требуют уставные нормы общества, я, обсудив этот вопрос с руководством нашей организации, передал дело комиссии штата по медицинской этике. Персонал комиссии свяжется с Вами в самое ближайшее время.
Мельком глянув на подпись, он обратился ко второму листку. Это было письмо к президенту Общества, с копиями для вице-президента, председателя комитета по этике и для каждого из шести входивших в состав комитета врачей.
Дорогой сэр или мадам!
Более шести лет назад я начала проходить курс психоанализа у члена Вашей организации, доктора Фредерика Старкса. По прошествии примерно трех месяцев, в течение которых я четыре раза в неделю приходила на его сеансы, он стал задавать мне вопросы, касающиеся моих сексуальных отношений с различными партнерами, а также моего неудавшегося брака. По мере продолжения сеансов вопросы приобретали все более откровенный характер. Всякий раз, когда я пыталась сменить тему, доктор неизменно заставлял меня вернуться к ней. Я протестовала, однако доктор уверял, что моя депрессия коренится в неспособности полностью отдаться сексуальным отношениям. Вскоре после этого заявления он меня изнасиловал. Он сказал, что, если я не отдамся ему, мне никогда не станет лучше.
Мне потребовалось несколько лет, чтобы оправиться от того случая с доктором Старксом. За это время я три раза попадала в больницу. У меня осталось два шрама от попыток покончить с собой.
Пока я не хочу открывать свое имя — уверена, что доктор Старкс хорошо меня помнит. Если Вы решите разобраться в этом деле, свяжитесь, пожалуйста, с моим адвокатом и/или моим психиатром.
Подписи не было, зато имелись имена и адреса адвоката и психиатра. Адвокат жил в центре Нью-Йорка, а психиатр — в пригороде Бостона. У Рики тряслись руки. Голова шла кругом.
Письмо не содержало ни единого слова правды.
Несколько секунд он расхаживал взад-вперед по кабинету, потом упал в старое кожаное кресло, стоявшее в изголовье кушетки. Относительно того, кто состряпал жалобу, у него сомнений не было. Анонимность жертвы делала это очевидным. Куда важнее было понять, для чего это понадобилось.