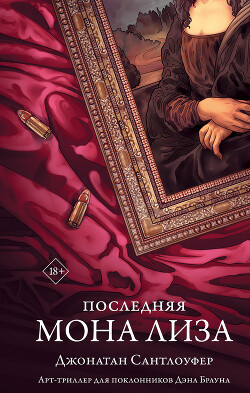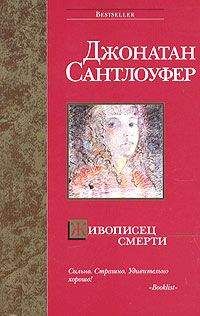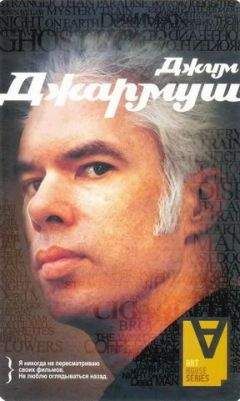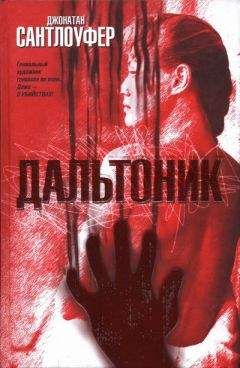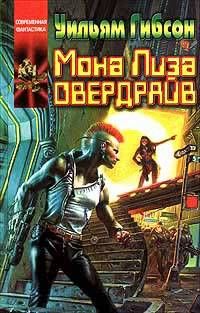Тейвел хищно улыбнулся.
– Моя секретарша говорит, что вы историк искусства, пишете о Тициане.
– Об искусстве эпохи Возрождения в целом.
– Понимаю. И для какого издания, как вы сказали?
Опять-таки, я и этого не говорил.
– Для «Академического журнала», – ответил я. – А если не Тициана, то каких художников вы коллекционируете?
– Да разных… немного эпохи Возрождения, немного современности.
– Какие художники Возрождения?
– Рафаэль и Джорджоне. Конечно, только рисунки. Боюсь, картины мне не по средствам.
Я окинул взглядом его большой угловой кабинет с живописным видом из окна. Идя сюда, я немного подготовился и знал, что Тейвел является партнером-основателем инвестиционной фирмы, одной из крупнейших и самых престижных в городе. Вряд ли ему что-то было не по средствам. Солнце заиграло золотом на его запястье.
– Вижу, вам нравятся мои часы. «Вашерон Константин»… серия «Традиционель»… вечный календарь… открытый циферблат, – четко проговаривая каждое слово, он приподнял манжету, чтобы показать свое сокровище. Часы были стилизованы под солнечные, у них было даже четыре миниатюрных солнечных циферблата, и вся внутренняя механика на виду.
– Корпус из розового золота и сапфировое стекло. – Он поднес запястье к моему лицу. – Двести семьдесят шесть деталей. Тридцать шесть камней. Дни недели, календарь на сорок восемь месяцев, включая високосный год, и, конечно, фазы Луны.
– Конечно, – произнес я, чувствуя, что Тейвел пользуется цитрусовым одеколоном.
– Я без них никуда. Непременно обзаведитесь такими.
– Непременно, – сказал я, понимая, что он издевается. – Обменяю на такие свой «Таймекс».
Он рассмеялся. Чересчур громко. Я спросил, могу ли я посмотреть рисунки Рафаэля и Джорджоне, о которых он упоминал.
– Они у меня не в офисе, а в разных домах: на Парк-авеню, в Палм-Бич, в Аспене. Вы ведь не похититель картин, правда?
Еще один слишком громкий смех. Я тоже засмеялся.
– Нет. Просто адъюнкт-профессор истории искусств.
– В каком учебном заведении? Какой-нибудь общественный колледж?
Я не без удовольствия произнес название своего солидного университета, из которого меня скоро могли уволить. Правда, у меня было ощущение, что Тейвел уже навел обо мне справки и знает, где я работаю.
– Рад за вас, – сказал он. – Вы живете в Нью-Йорке?
– В Бауэри.
– В Бауэри? Действительно? Трудно представить, чтобы район Бауэри, где раньше были сплошные трущобы, стал сейчас приятным местом проживания, хотя, возможно, все изменилось. Вам там не страшновато?
Я сказал ему, что теперь это совершенно безопасный район.
– Очень может быть, – небрежно заметил Тейвел. – Хотя никогда нельзя быть уверенным, не так ли? Я имею в виду, все может случиться, где угодно.
Это он что, угрожает?
– Вот почему у меня на дверях засовы, – сказал я.
– А на окнах нет решеток?
– Я на верхнем этаже. Так что, если только Человек-Паук…
– Мой любимый супергерой, – проговорил Тейвел.
– В самом деле? Я бы предположил, что Росомаха.
Тейвел рявкнул смехом, похожим на смех росомахи.
– Вы мне льстите.
Ни единой зацепочки я не получил. Мы поговорили еще несколько минут о современных художниках, которых он коллекционировал – Уорхол, Баския, Кунс – но Тейвелу это, кажется, наскучило.
Возможно, он, в свою очередь, понял, что я не представляю для него серьезной опасности. Он подвел меня к двери своего кабинета и протянул руку.
– На вашем месте я бы все-таки поставил решетки на эти окна в Бауэри. – Он сильно сжал мою руку. – Ведь никогда не знаешь, когда может появиться Человек-паук.
Он снова рассмеялся.
– Да нет. – Я сдавил его руку в ответ. – Я никогда не боялся маленького Питера Паркера.
– А как насчет Росомахи? – Отпустив мою руку, он выпроводил меня за дверь и захлопнул ее перед моим носом.
85
Дома я отыскал визитную карточку инспектора Кабеналь. Я знал, что она не обрадуется моему звонку, но хотел рассказать ей о Тейвеле – просто упомянуть в разговоре его имя и посмотреть, что из этого выйдет.
К моему удивлению, она ответила на звонок, хотя, как и ожидалось, он ее явно не обрадовал. Я спросил о Джонатане Тейвеле. Это имя ничего для нее не значило.
– Это имя было в списке коллекционеров Смита, среди тех, кого он собирался опросить…
– И вы встречались с этим человеком?
– Да.
Последовала пауза, затем она заговорила, и слова ее звучали как ружейные залпы.
– Мистер Перроне! Если вы будете упорствовать в этих вопросах, у меня не останется иного выхода, как сообщить местным властям, чтобы они вас арестовали. Вы… понимаете?
Я хотел послать ее к черту, но промолчал.
– Алло? Вы меня слышите?
– Да, слышу.
– Все, что расследовал аналитик Смит, больше вас не касается. Его это тоже больше не касается. Его работа здесь закончена. Вы поняли?
– Понял, – сказал я и повесил трубку.
Пытаясь унять злость, я произвел тщательную уборку в своей студии. Неужели Интерпол совсем не интересуется этими нечистоплотными коллекционерами, или все, что связано со Смитом, дискредитировано и отвергнуто?
Все, что расследовал аналитик Смит, больше вас не касается. Его это тоже больше не касается.
Снова и снова я прокручивал эти слова в голове, механически наводя порядок на своем столе, комкая бумаги и засовывая ручки и карандаши в держатель.
Его работа здесь закончена. Ну, естественно, если он мертв.
На мгновение я остановился и уставился невидящим взглядом в окно на соседнее здание, продолжая вслушиваться в слова Кабеналь. Было что-то странное в формулировке «его это тоже больше не касается… его работа здесь закончена». Означало ли это, что она не закончена в другом месте? Может быть, она только что сообщила мне, что Смит жив?
Вспомнил я и свой звонок в больницу в Париже.
Мистер Смит больше не находится в реанимации.
Тогда я предположил, что это значит: он умер – основываясь на том, что Кабеналь не сообщила мне, как мы договаривались, что Смит выжил. Но что для нее значит наш договор? Она покончила со мной и со Смитом – живым или мертвым. Я еще раз позвонил ей, но на этот раз звонок перешел на голосовую почту. Я не оставил сообщения. Связавшись с международным оператором в Лионе, я попросил номер Джона Вашингтона Смита. Такого в списках не было. Но у меня ведь где-то был номер Смита; я точно помнил, как он протягивал мне свою визитку. Но не отдал ее в руки, а засунул в карман моей рубашки. А что было потом? Я на мгновение задумался, вспомнил, что звонил ему, прокрутил список исходящих, но не смог вспомнить, какой из них – номер Смита. Так, а откуда я ему звонил? Из такси, после того, как на меня напали. Точно.
Я достал бумажник, порылся в нем и нашел ее, маленькую белую карточку, завалявшуюся между евро и долларами.
Я слушал, как телефон дал три, четыре, пять звонков. Может быть, я сошел с ума; может быть, Смит мертв? Затем включилась его голосовая почта. «Оставьте сообщение».
И все; он не назвался, но голос определенно его. Старое сообщение?
Работал бы его телефон по-прежнему, если бы он был мертв? Может быть.
– Смит, – проговорил я, – это Люк Перроне. Мне надо тебе кое-что сказать. Перезвони мне… э-э… если ты жив.
Я повесил трубку. Через пару секунд телефон зазвонил.
– Перроне?
– Срань господня! Ты жив!
– Откуда у тебя этот номер?
– Ты мне сам его дал, не помнишь? Господи, все это время я думал, что ты мертв.
– Да какая разница…
– Тебе не к лицу хныкать, Смит.
– Да пошел ты, Перроне.
– Сам иди. Только скажи сначала, ты цел и невредим?
– На мне больше швов, чем на футбольном мяче, но я в порядке.
– Кабеналь сказала мне, что ты мертв. Хотя не совсем так. Она сказала, что у тебя мало шансов выжить, проколоты внутренние органы и тому подобное.
– Какое-то время я висел на волоске. Полагаю, Кабеналь сожалеет, что я не умер и не избавил ее и весь Интерпол от большого неудобства. Я потерял работу и селезенку, но, очевидно, селезенка – не самый нужный орган. В остальном, я почти цел и невредим.