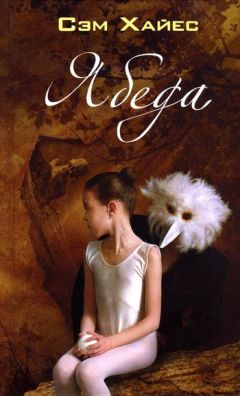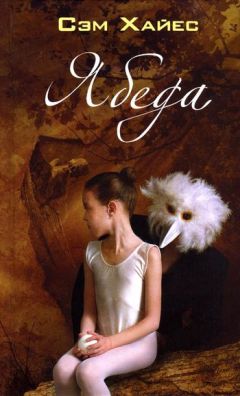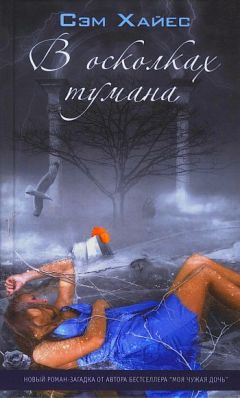Я киваю. Как хорошо было бы упасть в его объятия и затихнуть, пока боль не отпустит.
— А теперь пошли. — Миновав мою комнату, по покатому коридору мы спускаемся чуть дальше. В этой части здания ни одной прямой линии. — Мне Палмер дал ключ. Может, говорит, вы захотите взглянуть. Я ему рассказывал, что тебя заинтересовали портреты в библиотеке. — Ключ с натугой скрежещет в замке и наконец проворачивается. — Джефф сказал, сюда невесть сколько лет никто не заглядывал, а предстоит генеральная уборка — это помещение хотят выделить новым сотрудникам. — Эдам заходит, щелкает выключателем и оглядывается на меня: как я отреагирую?
Когда до меня доходит, что он устроил, я только смеюсь, удивленно качая головой.
— Шампанского, мадам? — Эдам подходит к столу, взметая крошечные пыльные смерчи над старыми досками загаженного пола, сдирает фольгу с бутылки «Лансон» и аккуратно разливает по бокалам. Один протягивает мне, а другой поднимает к глазам и следит за пузырьками. — Наш собственный вернисаж! — Он обводит комнату широким взмахом руки.
Они разложены на полу, выстроены вдоль стен, кипами свалены на подоконниках, развешаны на всех крючках — картины, картины. Тут добрая сотня картин.
— Палмер сказал, их сюда снесли сто лет назад. Он их все пересмотрел, а выбрал всего парочку, остальные не приглянулись. Говорит, на чердаке еще есть, только он их не видел. — Эдам показывает на люк в потолке: — Кому охота туда лезть. Их все скоро на аукцион отправят, так что Палмер разрешил брать, что понравится.
— Нет слов… — Я потягиваю шампанское.
— Поскольку идти со мной на выставку ты не пожелала, я решил, что за неимением лучшего сгодится и это. Есть кое-что очень неплохое, а прочее — тихий ужас. Только, поверь, я не хотел тебя расстраивать, когда ты сказала про художника, которого…
— Я и не расстроилась. — Улыбаясь — надо же, что придумал, — я двигаюсь в обход комнаты. А он широким жестом сдергивает со стола белую скатерть — стол ломится от холодных закусок. — Эдам… — У меня душа ноет от его доброты.
— Тебе надо взбодриться. А мне надо… — он запинается, — я хочу побыть с тобой. Вдвоем.
Я хмурюсь:
— Свидание?
— Да.
— Эдам, я никак не могу… — Я умолкаю и принимаю у него из рук тарелку крекеров с паштетом. — Спасибо.
— Ну, что скажешь? — Он приподнимает полотно без рамы. — Под импрессионистов косит?
— Кошмар! — смеюсь я. — Мазня бездарной школьницы.
— Не-а. Картины здесь были еще до того, как открылась школа. Палмер вообще не знает, как и когда они сюда попали.
— А вот эта, — я киваю на другую картину, — ничего. Мне нравится небо. Довольно удачный ход…
— …пустить по небу облака? — договаривает за меня Эдам.
— Но тоже кошмар, да? — Я фыркаю.
— Так тебе и надо! Вот не пошла со мной на выставку…
— Ладно, ладно, пойду.
Эдам подливает нам шампанского.
— И ужинать потом?
— Может быть. (Нет. Я не могу предать Мика.) А как тебе вот эта? Повесил бы у себя?
— Уволь.
— А эту?
— Ни за что!
Игра продолжается: одну за другой я поднимаю с пыльного пола картины, мы в два голоса потешаемся над ними, как будто сами нарисовали бы куда лучше, пока вдруг не натыкаемся на серию картин, разительно отличающихся от прочего хлама.
Эдам режет сыр.
— Ты «бри» любишь?
— Да, спасибо. А эти действительно хороши. — Я жую виноградину и разглядываю абстрактные и все же очень реалистичные картины, которые Эдам выставил под окном. — Выглядят современными, здорово опередили свое время. Смотри, на этой, по-моему, есть дата.
— 1983, — читает Эдам.
— Антиквариат, — усмехаюсь я, не сводя с картины глаз. От шампанского мне стало легче, но напряжение почему-то возвращается, стягивает шею, плечи, стучит болью в висках.
— Бери себе, — предлагает Эдам, — повесишь над кроватью. От них так или иначе будут избавляться. Какой там аукцион! Скорее всего, на помойку выкинут.
Я прислоняю картину к столу. Мы рассматриваем другие, уминаем деликатесы и приканчиваем шампанское.
Позже, лежа в кровати, я вглядываюсь в деревенский пейзаж, блуждаю в переливах зеленого, из которого он вылеплен, восхищаюсь мастерством художника. Один проблеск алого, искра золота — и ты уже видишь охотников, заливающихся лаем псов, насмерть перепуганную лисицу.
Засыпаю. И вижу сон, или не сон, а картину, или сон про картину. Я — лисица; задыхаясь, я мечусь по полю и не могу, никак не могу уйти от человека в капюшоне, который неотступно преследует меня. Дрожа, в поту, я просыпаюсь среди сбившихся простыней. Темно. Включаю свет и выбираюсь из кровати. Торопливо накидываю что-то на себя и бесшумно несусь через всю школу. Мне нужен Эдам. Мне срочно нужен его компьютер.
Много с собой не возьмешь. Она не египетская царица, которую провожают в загробную жизнь с кучей всякого добра. Она даже не уверена, будет ли жива через двадцать четыре часа. А если и будет, то кем станет?
В доме было удивительно тихо. Джози и Нат сидели наверху, пытаясь найти общий язык с Нининой швейной машинкой. Нину уже не раз призывали распутать нитку. Она постояла в дверях, наблюдая за девочками. Кройка и шитье отвлекли их от похода по магазинам, от кино, от потенциальной опасности. Нина вспомнила себя в этом возрасте, как она, бывало, из ничего мастерила нечто. «История моей жизни», — думала она, возвращаясь в их с Миком спальню.
Она легла на кровать и уставилась в потолок, в тысячный раз мысленно все перебирая, как делала обычно перед спектаклем на выпуске. Весь реквизит на месте. Грим проверен, спецэффекты подобраны, расходные материалы заказаны. Чтоб комар носа не подточил, парики не сбивались, бутафорской крови было хоть залейся. В точности как сейчас, как в реальной жизни, — все должно быть абсолютно готово к финалу. От страха сосало под ложечкой.
Нина вытянула руку, провела ладонью по матрацу. Это самый трудный шаг в ее жизни. Она представила, что Мик лежит рядом, и попробовала объяснить ему. Но воображаемый Мик вскочил с кровати, требуя подробностей, в ярости от того, что его столько лет держали в неведении. «Я ведь твой муж», — слышала она его злой, растерянный и разочарованный голос. А Джози? Мятущаяся, красивая, вспыльчивая, трудная. Еще неизвестно, что причинит ей больше боли — что мать всю жизнь жила во лжи или что ее, Джози, предали.
Нина уже вытряхнула деньги из банки, которую держала в кладовке, — ее тайный рождественский резерв. До недавнего успеха Мика у галерейщиков с деньгами у них было туговато. По привычке особенно не шикуя, Нина экономила там, сям — десять фунтов за одну неделю, двадцать за другую, и довольно скоро собралось несколько сотен. Ими-то она и расплатилась за груду металлолома, которую перекупщик называл автомобилем.
— Фамилия? — Его рука зависла над квитанцией.
— Дейвис, — без запинки ответила Нина. — Сара Дейвис.
Ему было без разницы, ей тоже, поскольку регистрировать драндулет Нина не собиралась. В клубах дыма она выехала из гаража и двадцать минут спустя припарковала старую развалину на месте, которое тщательно выбрала за день до этого. В багажнике был припрятан чемоданчик с одеждой и прочими нужными вещами, купленными все на ту же сэкономленную наличность. Детали плана мало-помалу срастались, и Нинино сердце стучало все громче. Она знала, что очень скоро будет нелегко удержать его в груди.
Мик работал в мастерской. Это хорошо, думала Нина, что жизнь вокруг нее идет своим чередом. Ее недавнее поведение, нервозное, переменчивое и подозрительное, — образцовое объяснение тому, что должно произойти и вызвать немало вопросов. Плюс оставленная записка, которую перечитают сотни раз.
Почему? Как она могла? Неужели никто не догадывался?
Сработает ли ее план, Нина не знала, только ничего другого, кроме как попытаться, ей не оставалось. Просить помощи не у кого — во всяком случае, некому довериться, а подвергать еще большей опасности тех, кого любила, Нина не могла.
Она утешалась мыслью, что, быть может, это не навсегда. Может, если хорошенько постарается, она как-нибудь исхитрится выцарапать хоть лоскуток того, что у нее когда-то было, даже вернется, объяснит, вымолит прощение. Правда, до этого еще невыносимо далеко, но если бы не эта надежда, Нина положила бы всему конец по-настоящему. Впрочем, и сейчас нет никакой уверенности, что она выживет. Так или иначе, но единственным достоверным фактом в ее жизни сейчас была смерть.
Я была разбита вдребезги. Покачивалась на блестящем проводе телефонная трубка, а я в изнеможении сползла по стенке будки.
Полиция едет. Я рассказала им все.
Две женщины в форме полицейских подсадили меня в машину. Жизнерадостные, будто ничего не произошло, они даже пытались шутить со мной. Но я-то знала: ничего и никогда уже не будет прежним.