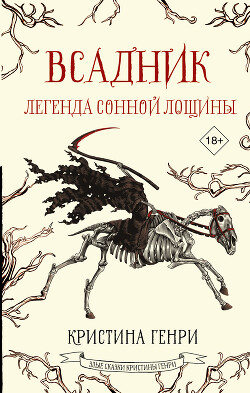в свою спальню, как закрывается за ним дверь.
Потом завершаю спуск по лестнице и выхожу в ночь, к Всаднику, к той судьбе, что ждет меня в лесах.
Я иду пешком, чтобы не подвергать моего кроткого Захта возможной опасности. Иду по безмолвной деревне, и звезды сияют надо мной, а тонкий серп луны прячется за клочком облака. Дыхание вырывается у меня изо рта серебристыми клубами, хотя я не чувствую холода.
Стоит начало осени, сезона перемен, как и в тот день так много лет назад, когда мы с Сандером играли в «соннолощинских». Осенью, когда природа преображается, меняя летнее великолепие на зимний плащ, я как никогда чувствую себя собой. Некоторые видят в осени только смерть – увядание, листопад, – а я вижу, как все богатство и красота лета ложатся в амбар до следующей весны. Осень – она как куколка в коконе, уснувшая до поры, пока не придет время стать бабочкой.
Сонная Лощина разрослась, и лес теперь располагается гораздо дальше, чем прежде. У дороги стоит много новых домов, которых не было здесь в моем детстве, и много деревьев вырубили, освобождая место для пашен. Я иду, напряженно вслушиваясь, не раздастся ли снова зов, который поднял меня с постели, вытащил из цепенящего горя в ночь, но ничего не слышу.
В любом случае не может же он быть в лесу рядом с дорогой или деревней. Он будет в самой чаще, в глухомани, забредать в которую местные по-прежнему избегают.
И Шулер де Яагер тоже будет там.
Пальцы ложатся на рукоять ножа Брома. Не знаю, смогу ли я убить Шулера, не знаю, можно ли его вообще убить. Не знаю, сумею ли я спасти Всадника. Не знаю, какое будущее ждет меня потом, когда все закончится, да и будет ли у меня вообще будущее.
Может, я – конечная точка, конечная точка пути всех ван Тасселей и ван Брунтов, и когда нас не станет, мир будет двигаться дальше, безразличный к нашим жизням и смертям. Мы станем всего лишь частью историй, которые люди рассказывают друг другу осенним вечером, сидя у камина, историй о Всаднике без головы, что скачет во тьме, историй о двух мужчинах и одной женщине, которую оба они желали, но любил ее лишь один из них.
И дети скажут, что это всего лишь сказка, что нет никакого Всадника, и Крейна нет, и Катрины, и Брома, но все равно будут натягивать одеяла до самых подбородков, прислушиваясь, не застучат ли в ночи копыта.
Моя нога не ступала в лес десять лет, и, казалось бы, ощущения должны быть совсем другими, но под деревьями мною сразу овладевает чувство, которое никак нельзя назвать беспокойством. Во мне расцветает твердое знание, что я принадлежу этому месту. Принадлежу этим лесам, этому воздуху, этим деревьям. Я – дитя природы, а не деревни. Мое сердце всегда жило здесь.
«Сандер был прав, – с грустью думаю я. – Сандер знал это, а я – нет».
Некоторое время я иду спокойно, легким широким шагом, наслаждаясь близостью таких знакомых деревьев и ощущением того, что они приветствуют меня после долгого отсутствия. Иду я не по дороге, которая все равно не привела бы меня туда, куда мне нужно. В просветах между ветвей мигают звезды, и я слышу, как вокруг суетятся ночные создания – кто-то шуршит в кустах, где-то далеко ухает сова, а в какой-то момент, слишком близко ко мне, сопит медведь, вышедший на последнюю перед зимней спячкой охоту.
Потом деревья подступают ближе и, сгорбившись, наблюдают за мной с едва сдерживаемой злобой. Тени обретают плотность, становятся словно бы осязаемыми, принимают формы, видимые лишь краем глаза. Шебуршания зверьков уже не слышно, ведь лесная мелочь знает, что сюда лучше не соваться, поскольку здесь обитает кое-кто покрупнее – с зубами, которые кусают, и когтями, которые хватают.
Шаги мои замедляются, и я пытаюсь не обращать внимания на тягостную тревогу, растущую в груди, на то, как сжимается горло, не давая толком вдохнуть, на ощущение того, что кто-то стоит за спиной, ожидая, когда я обернусь.
– Бен.
Я выхватываю нож и резко поворачиваюсь на голос, идущий из тьмы слева. И чуть не роняю клинок, увидев, кто заговорил со мной.
Во мраке застыл Кристоффель ван ден Берг, неправдоподобно целый, не повзрослевший ни на день после своей смерти.
«Он не настоящий, – говорю я себе. – Он всего лишь плод моего воображения, не призрак, но иллюзия».
– Что ты делаешь тут в лесу, Бен? – спрашивает Кристоффель. Мягкий голубоватый свет, фосфорическое сияние исходит от него. – Ты же знаешь, детям нельзя сходить с тропы. Это опасно. Сойдешь – и с тобой случится что-то плохое.
Он делает шаг ко мне, и я пячусь, выставив перед собой нож:
– Не приближайся.
– Я не желаю тебе зла. Хотя я никогда тебе не нравился, правда, Бен? Какая-то часть тебя всегда считала, будто я получил то, что заслужил, когда тот монстр нашел меня.
– Нет. У меня никогда не было таких мыслей. Мне было жаль тебя.
Его губы кривятся в усмешке.
– Да, тебе было жаль меня. Я такой бедный, что все добренькие леди Лощины таскали нам корзинки с едой, ведь мой отец пропивал все наши деньги. Ты жила в огромном доме, где все смеялись и любили друг друга, а я жил в крохотной хижине, даже без свечей, слушая, как рыдает мать, как орет отец, как гуляют по ее телу его кулаки. Да, вам было жаль меня, всем славным жителям Сонной Лощины, но никто не помог. Никто не забрал меня.
– Никто не мог забрать тебя от твоих родителей.
– Они не были родителями, – говорит Кристоффель и, кажется, немного вырастает, раздуваясь от гнева. – Родители – это те, кто заботится о своих детях. Мой отец заботился только о себе и о том, что можно найти на дне бутылки, а мать была слишком слаба, чтобы уйти от него, даже ради своего спасения.
– Мне жаль, – повторяю я, и звучит это ужасно неубедительно, но я не знаю, что еще сказать или сделать.
Я не могу ничего исправить. Не могу вернуться в прошлое и сделать его родителей лучше, не могу убедить кого-нибудь в городке – никчемного Сэма Беккера например, – забрать Кристоффеля и поместить его в более благополучный дом. Не могу помешать ему пойти в лес в тот день, когда он погиб, не могу не дать Крейну убить его.
– «Жаль». Это все, что у тебя есть для меня? Вся милостыня, которую