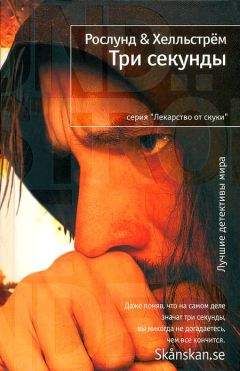Вестманнагатан, семьдесят девять.
Вестманнагатан ты тоже получишь. Когда мы закончим вот с этим. За двадцать четыре часа.
Снова энергичные шаги, теперь — вниз по лестнице. Прокурор принес принтер, подключил его к ноутбуку, и они услышали, как триста две распечатки ложатся в стопку, одна за другой.
— Вы вернете его на место?
— Да.
— Вам нужна помощь?
— Нет.
— Точно?
— Дверь не заперта.
Солнце заливало кухню, свет, который только что мешался со светом ярких ламп, теперь справлялся собственными силами. Гренс не заметил, когда Огестам выключил освещение.
На часах всего половина пятого, но уже стоял ясный день.
— Ларс.
Молодая, спутанные волосы, белый халат, белые тапочки; утомленный вид.
— Прости. Мы тебя разбудили?
— Почему ты не спишь?
— Это Эверт Гренс, и…
— Я знаю, кто это.
— Я скоро приду. Мы только закончим вот с этим.
Женщина вздохнула. Она весила немного, но, когда она пошла назад в спальню на втором этаже, шаги ее были тяжелее, чем у Гренса.
— Прошу прощения.
— Она снова уснет.
— Все еще сердится?
— Она понимает, что вы тогда ошиблись. И я тоже понимаю.
— Я извинился. И, черт возьми, это было пять лет назад!
— Гренс!
— Что?
— Вы опять кричите. Смотрите не разбудите детей.
Огестам вылил остатки из обеих чашек в раковину, горький осадок, что вечно вязнет в зубах.
— Хватит с меня чая. — Он поднял стопку из трехсот двух только что распечатанных документов. — Не важно, сколько времени. Это… моя усталость прошла, Гренс, я… разозлился. А вот это мне нужно, чтобы успокоиться.
Огестам открыл шкафчик над раковиной. На верхней полке — бутылка «Сиграм» и приличных размеров стаканы.
— Что скажете, Гренс? — Огестам наполнил два стакана, чуть не долив до половины.
— Сейчас половина пятого утра!
— Иногда приходится.
Другой человек.
Эверт Гренс слабо улыбался, Огестам тем временем выпил половину.
А ведь комиссар руку бы дал на отсечение, что молодой прокурор — трезвенник.
Гренс чуть помедлил и тоже выпил. Вкус оказался мягче, чем он ожидал, виски отлично сочеталось с кухней, пижамой и халатом.
— До правды мы всегда докопаемся, Огестам. — Он положил руку на кипу бумаги. — Я сижу здесь не потому, что мне так нравится ваша заспанная физиономия. И не ради вашего чая, даже не ради виски. Я приехал сюда, потому что уверен — вдвоем мы сможем с этим разобраться.
Огестам листал секретные донесения, о существовании которых несколько часов назад даже не догадывался.
Шея все еще в красных пятнах.
Рука все еще беспокойно ерошит волосы.
— Триста два дела.
Он так и не сел. Почитал, снова поискал, наугад выбрал следующий документ.
— Две версии. Одна — официальная. А другая — только для полицейского руководства. — Он потряс стопкой в воздухе перед собой, налил еще виски. — Понимаете, Гренс? Я могу выдвинуть обвинение против них всех. Могу обвинить каждую замешанную в этом полицейскую крысу! За подделку документов. За лжесвидетельство. За подстрекательство к совершению преступления. В Аспсосе придется открывать специальное отделение, полицейское. — Он выпил, рассмеялся. — А какие процессы? Что вы о них скажете, Гренс? Все эти заключительные речи в судах, допросы, приговоры — притом что у нас не было информации, к которой вы у себя в полиции уже имели доступ!
Он швырнул кипу на стол, листы спланировали на пол, прокурор поднялся и наступил на них.
— Ты разбудил детей.
Они не услышали, как она спустилась. Жена Огестама стояла в дверном проеме, в том же белом халате, но босая.
— Ларс, успокойся.
— Не могу.
— Ты их пугаешь.
Огестам расцеловал ее в обе щеки и пошел было наверх, в спальню детей, но на первой ступеньке обернулся:
— Гренс! Я весь день буду заниматься нашим делом.
— В понедельник утром хватятся двух записей с видеокамеры.
— Я вернусь сегодня вечером, не позже.
— В понедельник утром плохие люди сообразят, что я к ним уже адски близко подобрался.
— Самое позднее — сегодня вечером. До вечера я успею. Пойдет?
— Пойдет.
Прокурор еще постоял, снова рассмеялся:
— Гренс, вы понимаете? Целое отделение для полицейских! Специальное полицейское отделение в Аспсосе!
* * *
Вкус у кофе был другой.
Он сделал пару глотков и тут же вылил первый стаканчик. У нового кофе вкус был такой же. Гренс уже держал в руке третий — и вдруг понял, в чем дело.
Десны будто покрыты пленкой.
Комиссар начал день на кухне Огестама двумя стаканами виски. Он не привык к такому. Комиссар вообще не слишком увлекался крепким спиртным, он уже давным-давно прекратил пить в одиночку.
А теперь он сидел за рабочим столом, чувствуя себя странно опустошенным.
Кто-то из ранних пташек уже явился на работу и прошел мимо его открытой двери, но они не вызвали у него раздражения — даже те, кто остановился поздороваться.
Всю свою ярость он уже успел выпустить на волю.
Он ехал от Огестама; пара газетчиков, велосипедисты — и всё, словно огромный город больше всего уставал именно к пяти утра.
Места для вины было хоть отбавляй. Вины, которую другие пытались возложить на него. Она словно даже уселась было рядом с комиссаром, но Гренс шикнул на нее, чтобы заткнуть ей рот, и загнал на заднее сиденье. Вина и оттуда продолжала пилить его, принуждая ехать быстрее. Гренс уже направлялся домой к Йоранссону, чтобы отделаться от нее, когда наконец одумался. Он пойдет на конфликт, но не сейчас. Очень скоро он встретится с теми, на ком действительно лежит ответственность за случившееся. Гренс поставил машину вверху Бергсгатан, у входа в Управление, но к себе в кабинет пошел не сразу. А сперва поднялся на лифте в следственную тюрьму Крунуберг, на крышу, где был устроен прогулочный двор, восемь длинных узких клеток. Каждый заключенный имел право на двадцать метров моциона и час свежего воздуха в сутки. Гренс приказал сидящим в каптерке охранникам вернуть в камеры двух арестантов, стоящих, в скверно пошитых тюремных робах, каждый в своей клетке и глядящих сверху на город и свободу, а потом самим покинуть рабочее место и досрочно отправиться на перерыв — спуститься на два этажа вниз и выпить кофе. Дождавшись, пока он останется один, Гренс стал прогуливаться по одной из тесных прогулочных площадок. Он смотрел на небо в зазор между решетками — и кричал на дома, спящие в стокгольмском рассвете. Пятнадцать минут он стоял, держа в руках украденный компьютер с другой реальностью, и кричал так, как не кричал еще никогда. Гренс выпустил из себя ярость, она прокатилась по крышам и пропала где-то над Васастаном. Комиссар охрип и чувствовал себя уставшим, опустошенным.
У кофе по-прежнему был неправильный вкус. Гренс отставил стаканчик в сторону и сел на диван, потом лег и закрыл глаза, представляя себе лицо в окне тюремной мастерской.
Не понимаю, не понимаю.
Человек по собственной воле решается жить там, где каждый день — это потенциальный смертный приговор.
Ради адреналина? Ради дурацкой полицейской романтики? Или таковы его убеждения?
В такое я не верю. Это просто красивые слова.
Из-за денег?
Из-за паршивых десяти тысяч крон в месяц из осведомительского фонда, позволяющего обойтись без официальной ведомости и скрыть личность агента?
Едва ли.
Гренс разгладил обивку на высоковатом подлокотнике дивана. Обивка натирала шею, и расслабиться было трудно.
В голове не укладывается.
Ты мог совершить какое угодно преступление, закон на тебя не распространялся — но только пока ты был полезен, пока не стал человеком, без которого можно обойтись.
Ты был вне закона.
И знал это. Знал, что именно так работает система.
У тебя было все, чего нет у меня, — жена, дети, дом… Тебе было что терять.
И все-таки ты выбрал такую жизнь.
Мне этого не понять.
Шея затекла. Все из-за высокого подлокотника.
Гренс уснул.
Лицо в окне тюремной мастерской пропало, сон пересилил. Сон пришел на смену бешенству и мягко баюкал комиссара почти семь часов. Один раз Гренс все же вроде бы проснулся, будто бы зазвонил телефон, и Свен доложил, что сидит в аэропорту Нью-Йорка и ждет самолет на Джэксонвилль, что звуковые файлы оказались весьма любопытными и что он еще в самолете подготовился к встрече с Вильсоном.
Давно уже Гренс не спал так хорошо.
Несмотря на яркое солнце в кабинете, несмотря на адский шум.
Он потянулся. Спина затекла, как обычно после сна на узком диване; негнущаяся нога, коснувшись пола, заболела, да, он разваливался на части, день за днем, как все мужчины под шестьдесят, которые слишком мало двигаются и слишком много едят.