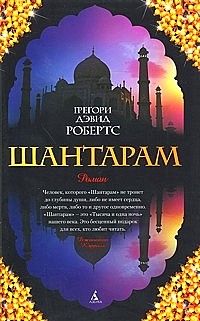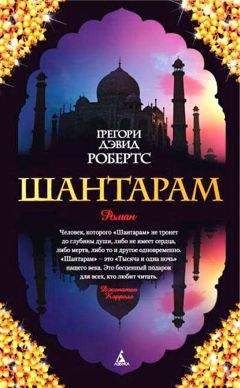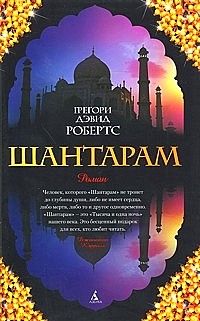Я в расстройстве колебался перед большой аркой входа. Я знал, что не только представители других конфессий, но и неверующие имеют право заходить в мечеть — либо для того, чтобы помолиться или предаться размышлениям, либо просто полюбоваться архитектурой и убранством. Но знал я и то, что мусульмане считают себя притесняемым меньшинством в городе, где преобладает индуистская вера. Жестокие схватки между приверженцами различных религий случались довольно часто. Прабакер рассказывал мне, что однажды стычка между воинственными индусами и мусульманами произошла как раз около этой мечети.
Я не знал, что делать. Наверняка, в мечети были другие выходы, и если мальчик захочет убежать от меня, то я вряд ли смогу этому помешать. Сердце мое билось от страха, что придется вернуться к Кадербхаю и признаться ему, что я потерял его племянника, не отойдя от его дома и ста метров.
Я уже решил войти в мечеть и поискать мальчика, но тут увидел его. Тарик пересекал справа налево огромный богато украшенный изразцами вестибюль. Его голова, руки и ноги были мокрыми — по-видимому, он поспешно умылся. Пройдя чуть дальше, я увидел, что он встал на колени позади группы мужчин и тоже начал молиться.
Выйдя на улицу, я сел на какую-то тележку и закурил. К моему облегчению, Тарик появился через несколько минут, схватил свои сандалии и подошел ко мне. Стоя рядом, он поднял глаза к моему лицу, наполовину нахмурившись, наполовину улыбаясь, как умеют только дети, когда они счастливы и напуганы одновременно.
— Зухр! Зухр! [81]— произнес он, давая понять, что это был час полдневной молитвы. Голос его при этом был удивительно твердым для ребенка. — Я благодарил Бога. А ты благодаришь Бога, Линбаба?
Опустившись на одно колено, я крепко схватил его за руки. Тарик поморщился, но я продолжал держать его. Я был сердит и понимал, что выражение лица у меня ожесточенное, если не жестокое.
— Никогда больше не делай этого! — рявкнул я на хинди. — Не смей убегать от меня!
Он нахмурился, глядя на меня испуганно, но непокорно. Затем его лицо напряглось, на нем появилась маска, с помощью которой мы пытаемся удержать слезы. Глаза его наполнились слезами, одна из них скатилась по щеке. Я поднялся и отошел от него на шаг. Несколько мужчин и женщин остановились поблизости, наблюдая за нами — пока без особой тревоги. Я протянул мальчику руку. Он неохотно взял ее, и мы направились к ближайшей стоянке такси.
Оглянувшись через плечо, я увидел, что люди смотрят нам вслед. Во мне бурлила гремучая смесь эмоций, главной из которых была злость, в основном на самого себя. Я остановился, Тарик остановился тоже. Я сделал несколько вдохов, чтобы успокоиться. Мальчик стоял, наклонив голову набок и внимательно глядя на меня.
— Я сожалею, что рассердился на тебя, Тарик, — сказал я спокойно. — Этого не повторится. Но прошу тебя, пожалуйста, не убегай от меня больше. Я очень испугался и встревожился.
Мальчик расплылся в улыбке — впервые с тех пор, как мы встретились. Я поразился тому, насколько она похожа на сияющий лунный диск Прабакера.
— Господи, спаси меня и помилуй! — взмолился я всем своим естеством. — Только не это. Одного Прабакера мне вполне хватит.
— Да! Замечательное о’кей! — согласился Тарик, тряся меня за руку с энтузиазмом спортсмена на тренажере. — Господи спаси тебя и меня, всегда-всегда!
— Когда она вернется?
— Откуда я знаю? Может, и скоро. Она просила подождать.
— Гм. Подождать. Поздно уже, малышу спать пора.
— Твое дело, приятель. Мне без разницы. Она просила, я передала.
Я посмотрел на Тарика. Он не выглядел усталым, но я знал, что скоро его сморит сон. Я решил, что ему не мешает отдохнуть, прежде чем мы двинемся к нам в трущобы. Скинув туфли, мы вошли в дом Карлы и закрыли дверь за собой. В большом саромодном холодильнике я нашел бутылку воды. Выпив воды, Тарик опустился на груду подушек и стал перелистывать журнал «Индия тудей».
Лиза сидела в спальне Карлы на постели, подтянув колени к подбородку. Кроме красной шелковой пижамной куртки, на ней ничего не было. Виднелся хвостик белокурых лобковых волос, и я оглянулся, чтобы убедиться, что мальчик не может заглянуть в комнату. В руках она сжимала бутылку виски «Джек Дэниелс». Ее длинные вьющиеся волосы были небрежно собраны в пучок, съехавший на сторону. Она глядела на меня оценивающе, сощурив один глаз и напоминая стрелка, примеривающегося к мишени.
— А где ты раздобыл этого малыша?
Я оседлал стул, положив руки на его прямую спинку.
— Он достался мне как бы в наследство. Я его взял в виде одолжения.
— Одолжения? — Она произнесла это слово так, будто это было название какой-то заразной болезни.
— Ну да. Мой друг попросил меня обучить его английскому.
— А почему же он сидит тут, а не учит английский дома?
— Я должен держать его при себе, чтобы он в это время обучался разговорному языку.
— Держать при себе? Все время? Куда бы ты ни пошел?
— Да, так мы договорились. Но я надеюсь, что через пару дней отправлю его обратно. Сам не знаю, почему я согласился взять его с собой.
Она громко расхохоталась. Из-за того, что она пребывала в таком состоянии, смех звучал неестественно и грубо, но сам по себе он был полнозвучным, с богатыми модуляциями, и в других условиях, вероятно, производил бы приятное впечатление. Она глотнула виски из горлышка, запрокинув голову и обнажив одну округлую грудь.
— Я не люблю детей, — изрекла она гордым тоном, каким могла бы объявить о том, что получила какую-нибудь почетную премию.
Затем сделала еще один большой глоток. Бутылка была наполовину пуста. Я понял, что скоро ее напыщенная связная речь сменится невнятным бормотанием, потерей ориентации и соображения.
— Слушай, я пришел только за моей одеждой, — проговорил я, осматривая комнату в поисках своих вещей. — Я возьму ее и вернусь повидать Карлу как-нибудь в другой раз.
— У меня предложение к тебе, Гилберт.
— Меня зовут Лин, — поправил я ее, хотя это имя было такое же вымышленное.
— У меня предложение, Лин. Я скажу тебе, где твоя одежда, если ты согласишься переодеться прямо здесь, у меня на глазах.
Отношения между нами не сложились с самого начала, и теперь мы смотрели друг на друга с колючей враждебностью, которая иной раз ничуть не хуже, а то и лучше взаимной симпатии.
— Ну, предположим, ты выдержишь это зрелище, — протянул я, невольно усмехнувшись. — Мне-то что за радость в этом?
Она опять расхохоталась, на этот раз более искренно и естественно.
— Нет, а ты ничего, Лин. Ты не принесешь мне воды? Чем больше я глотаю этого пойла, тем больше пить хочется.
По дороге в кухню я проверил, что делает Тарик. Мальчик уснул, откинув голову на подушки и открыв рот. Одна рука была сложена под подбородком, в другой он все еще держал журнал. Я взял у него журнал и накрыл его легкой вязаной шалью, висевшей на стенном крючке. Тарик спал довольно крепко и не пошевелился. В кухне я взял бутылку воды из холодильника, нашел два стакана и вернулся в спальню.
— Малыш уснул, — сказал я, отдав ей стакан. — Пусть отдохнет. Если он сам не проснется, я разбужу его чуть позже.
— Садись. — Она похлопала по постели рядом с собой. Я сел и налил себе воды. Она смотрела, как я пью, поверх своего стакана.
— Хорошая вода, — сказала она после непродолжительного молчания. — Ты заметил, что здесь хорошая вода? По-настоящему хорошая. Я хочу сказать, ожидаешь, что это будет какое-нибудь дерьмо, поскольку здесь Бомбей, Индия и так далее, а на деле она гораздо лучше, чем лошадиная моча с химическим привкусом, что льется из крана у нас дома.
— А где у нас дом?
— Какая, на хрен, разница? — Увидев, что я досадливо поморщился, она добавила: — Не лезь в бутылку. Я ничего не строю из себя. Я серьезно говорю — какая разница? Я никогда туда больше не поеду, а ты тем более.
— Да уж наверное.
— Черт, ну и жарища! Терпеть не могу это время года, перед самым сезоном дождей. Такая погода сводит меня с ума. Тебя не сводит? Мне уже четвертый раз приходится переносить ее здесь. Прожив тут какое-то время, начинаешь отсчитывать года по этим сезонам. Дидье здесь уже девятый сезон дождей. Можешь представить? Девять поганых сезонов. А ты?
— У меня второй, и я жду его с нетерпением. Обожаю дождь, хоть он и превращает наши трущобы в болото.
— Карла сказала мне, что ты живешь в трущобах. Не знаю, как ты это выносишь — вонь, толчея, все живут друг у друга на голове. Меня никакими коврижками не заманишь в такое место.
— Это не так плохо, как кажется, — как и все остальное в этой жизни.
Она склонила голову на плечо и посмотрела на меня с непонятным выражением. Глаза ее сверкали чуть ли не призывно, а губы презрительно кривились.