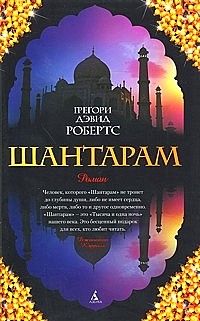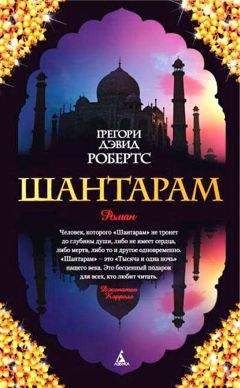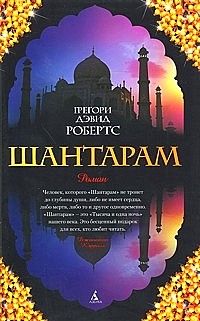— Он покончил с собой, этот Ганнибал, — проговорила она тихо, не открывая глаз. — Они хотели отправить его в Рим, чтобы его судили там, и он покончил с собой. Как тебе это нравится? После всех этих лет, этих слонов и великих сражений он взял и убил себя. И все это правда, Карла рассказала мне это. Карла всегда говорит правду… даже когда врет… Черт, я люблю эту бабу. Знаешь, она все-таки вытащила меня из этой клоаки… Да, и ты ведь тоже… И она помогает мне теперь очиститься от всего этого, Лин… то есть, Гилберт. Мне надо очиститься, да… Я люблю ее…
Она спала. Я понаблюдал за ней некоторое время, чтобы убедиться, что ей не станет плохо и она не проснется опять, но она погрузилась в глубокий сон. Я проведал Тарика. Он тоже крепко спал, и я решил не будить его. Я испытывал волнующее удовольствие оттого, что был один, окруженный тишиной и спокойствием. В этом многомиллионном городе, где половина жителей были бездомными, критерием богатства и власти была возможность уединения, которое можно было приобрести лишь на деньги, и одиночества, которого мог добиться лишь тот, кто обладал властью. Бедняки почти никогда не оставались в одиночестве в Бомбее, а я был бедняком.
Ни звука не долетало с улицы в комнаты, наполненные дыханием. Я двигался по квартире совершенно свободно, никто за мной не наблюдал. Благодаря двум спящим, женщине и ребенку, тишина была особенно приятна, а покой казался нерушимым. Это пробуждало во мне благостные фантазии. Когда-то такая жизнь была мне знакома: тогда женщина и спящий ребенок были моими, а я был мужем и отцом.
Я остановился возле письменного стола Карлы, заваленного бумагами. Посетившая меня на один миг фантазия о мирной семейной жизни съежилась и рассыпалась. В действительности моя семейная жизнь была разрушена, и я потерял своего ребенка, свою дочь. В действительности Лиза и Тарик ничего для меня не значили, и я ничего не значил для них. В действительности никому и нигде до меня не было дела. Находясь в гуще людей и мечтая об уединении, я по сути всегда и везде был один. Хуже того, мое бегство и добровольное изгнание опустошили меня, выкачали до вакуума и ободрали догола. Я потерял семью, друзей юности, родину и свою культуру — все то, что сформировало меня, сделало личностью. И, как это случается со всеми изгнанниками, чем дальше я бежал, чем большего успеха добивался, тем меньше во мне оставалось от самого себя.
Правда, для нескольких человек я был не совсем чужим — для нескольких новых друзей моей зарождающейся новой личности. У меня был Прабакер, маленький гид, влюбленный в жизнь. Были Джонни Сигар, Казим Али, Джитендра и его жена Радха — герои хаоса, которые пытались спасти разваливающийся город с помощью бамбуковых подпорок и упрямо любили своих ближних, как бы низко те ни пали, как бы ни были сломлены и неприглядны. У меня были Кадербхай и Абдулла, Дидье и Карла. Стоя перед зеркалом и глядя в свои ожесточенные глаза, я думал о них всех и спрашивал себя, что сблизило их со мной. Почему именно они? Чем они отличались от других? Такая разношерстная компания — самые богатые и самые обездоленные, образованные и безграмотные, праведники и преступники, старые и молодые. По-видимому, единственное, что их всех объединяло, — это способность заставить меня почувствовать… хоть что-то.
На столе лежала толстая тетрадь в кожаном переплете. Я открыл ее. Это был дневник Карлы, заполненный ее изящным почерком. Сознавая, что мне не следовало бы этого делать, я перелистал тетрадь, вторгаясь в ее потаенные мысли. Собственно говоря, это нельзя было назвать дневником в обычном понимании. Не было проставлено дат, не было отчетов о том, что она сделала за день, с кем встречалась. Вместо этого там содержались выдержки из романов и иных текстов с указанием автора и ее собственными комментариями и критическими замечаниями. Среди них было много стихов — из собраний сочинений, отдельных сборников и даже газет; под ними стояло имя автора и источник. Имелись и ее собственные стихи, переписанные по несколько раз с добавлением новой строчки, исправлением той или иной фразы. Некоторые слова в цитатах были помечены звездочками, и тут же были даны их словарные значения, в совокупности составлявшие своего рода словарь необычных или не вполне понятных слов. Встречались отдельные отрывки, записанные как «поток сознания» и раскрывавшие, что она думала и чувствовала в тот день. Часто упоминались друзья и другие люди, но всегда без имен — просто «он» или «она».
На одной из страниц мне попалась загадочная и пугающая запись:
ВОПРОС: Что сделает Сапна?
ОТВЕТ: Сапна убьет нас всех.
Я читал и перечитывал эти строчки, и сердце у меня билось учащенно. Несомненно, имелся в виду тот самый человек, чьи сподручные совершили чудовищные убийства, о которых говорили Абдул Гани и Маджид, за кем охотились и полиция, и мафия. И из этой надписи следовало, что Карла знает что-то о нем — может быть, даже знает, кто это такой. Я задумался, что бы это значило и не угрожает ли ей опасность.
Я внимательно просмотрел несколько страниц, предшествующих этой записи, и несколько последующих, но больше ничего ни о Сапне, ни о какой-либо связи Карлы с ним не нашел. Но зато на предпоследней странице был отрывок, несомненно, касавшийся меня:
Он хотел сказать, что любит меня. Почему я остановила его? Неужели я стыжусь того, что это может быть правдой? Вид оттуда был удивительный, просто невероятный. Мы были так высоко, что воздушные змеи, которых запускали дети, летали где-то далеко внизу. Он сказал, что я не улыбаюсь. Меня радует, что он сказал это. Интересно, почему?
Ниже были приписаны еще три строки:
Не знаю, что меня пугает больше:
сила, которая подавляет нас,
или бесконечное терпение, с которым мы к этому относимся.
Я очень хорошо помнил, как она произнесла эту фразу там, на стройке, когда часть хижин была стерта с лица земли. Как и многие ее высказывания, это содержало мысли, прочно засевшие в моей памяти. Меня удивило и даже, пожалуй, немного шокировало, что она не только запомнила эту фразу, но и записала ее в тетрадь, чуть улучшив ее и придав ей афористическую закругленность. Очевидно, она собиралась использовать ее при случае в разговоре.
Последней записью в дневнике было сочиненное Карлой стихотворение. Поскольку оно находилось на странице, следовавшей за отрывком обо мне, и поскольку мне этого очень хотелось, я решил, что и стихотворение посвящено мне — или, по крайней мере, отчасти порождено чувствами, которые она ко мне испытывала. Я знал, что на самом деле это не так, но любви обычно нет дела до того, что мы знаем, а что нет, и что является истиной.
Чтобы никто не мог найти нас по следам,
я укрыла их своими волосами.
Солнце село на острове нашего уединения,
взошла ночь,
проглотив эхо.
Мы выброшены на берег в переплетении мерцаний,
нашептываемых свечами в наши спины.
Твои глаза надо мной
боялись обещаний, которые я могла сдержать,
меньше сожалея о высказанной правде,
чем о лжи, которой мы не сказали,
я проникла в самую глубину,
чтобы сразиться с прошлым ради тебя.
Теперь мы оба знаем,
что печаль — это семя любви.
Теперь мы оба знаем, что я буду жить
и умру за эту любовь.
Не отходя от стола, я взял ручку и переписал эти строки на листке бумаги. Сложив листок с украденным стихотворением, я засунул его в свой бумажник, закрыл тетрадь и оставил ее на столе в том же положении, в каком она была.
Я подошел к книжному стеллажу. В заглавиях книг мне хотелось найти ключ к душе женщины, которая выбрала их и читала. Небольшая библиотека, уместившаяся на четырех полках, была на удивление эклектична. Здесь стояли труды по истории древней Греции, по философии и космологии, книги о поэзии и драме. Переведенная на итальянский «Пармская обитель» Стендаля соседствовала с «Мадам Бовари» на французском, произведения Томаса Манна и Шиллера на языке оригинала — с книгами Джуны Барнс [83] и Вирджинии Вулф на родном языке этих писательниц. Я взял «Песни Мальдорора» Исидора Дюкасса[84]. Уголки многих страниц были загнуты, поля пестрели примечаниями, сделанными почерком Карлы. Немецкий перевод «Мертвых душ» Гоголя также изобиловал ее комментариями. Она поглощала, пожирала книги, они были все в следах и шрамах, оставленных ее рукой.
Половину одной из полок занимали штук двадцать таких же тетрадей, как и та, что лежала на столе. Я перелистал одну из них. Только сейчас я обратил внимание на то, что все записи в тетрадях сделаны на английском языке. Карла родилась в Швейцарии и, как я знал, бегло говорила по-немецки и по-французски. Однако свои самые сокровенные мысли и чувства она излагала на английском. Я с радостью ухватился за этот факт, говоря себе, что это очень обнадеживающий знак. Когда она разговоривала сама с собой, раскрывала свое сердце, она пользовалась моим родным языком.