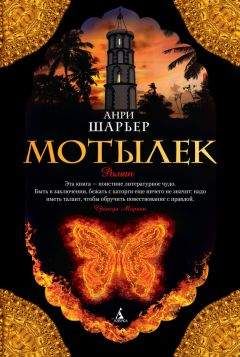– Иди вперед и держись в стороне от остальных. Встань вон там справа. Антарталия, не позволяй им общаться между собой.
Нас отделяло друг от друга не более двух метров. Антарталия сказал:
– Никаких разговоров!
Карбоньери продолжал говорить по-корсикански с соотечественником, который теперь следил за обеими группами. Багор наклонился, чтобы поправить развязавшийся шнурок на ботинке. Я тихонько подтолкнул Матье вперед. Он все понял. Посмотрел на Бебера Селье и плюнул в его сторону. Когда багор снова выпрямился, Карбоньери, не прерывая разговора, настолько завладел его вниманием, что первый даже не заметил, что я сделал шаг вперед. В ладонь из рукава скользнул нож. Только Селье мог его видеть. С неожиданной быстротой он глубоко вонзил мне в правую руку нож, который держал открытым в кармане штанов. Я левша. Одним выпадом я всадил свой нож ему в грудь по самую рукоятку. Животный крик «а-а-а!», и он рухнул как сноп.
– Назад! – закричал Антарталия, наставив на меня револьвер. – Лежачего не бьют! Иначе пристрелю, хотя мне этого не хотелось бы делать.
Карбоньери подошел к Селье и отпихнул его голову ногой. Сказал пару слов по-корсикански. Я понял: Селье мертв.
– Дай сюда нож, парень, – сказал надзиратель.
Я повиновался. Он вложил револьвер в кобуру, подошел к железной двери и постучал. Дверь открылась, и он сказал появившемуся багру:
– Зови носильщиков убрать труп.
– Кто убит?
– Бебер Селье.
– О, а я думал – Папийон.
Нас снова отправили в изолятор. Очная ставка отменялась. В коридоре Карбоньери сказал мне:
– Ну, старина, теперь держись.
– Да. Но он-то мертв, а я живой.
Антарталия вернулся один. Тихо открыл дверь моей камеры и сказал:
– Постучи и скажи, что ты ранен. Он первый на тебя напал, я это видел.
И он так же тихо закрыл дверь. Было видно, что надзиратель обеспокоен.
Эти надзиратели-корсиканцы жуткие ребята: они либо свои в доску, либо настоящие дьяволы. Я стал колотить в дверь и крикнул:
– Я ранен. Отведите меня в больницу перевязать рану.
Багор вернулся с главным надзирателем изолятора.
– Что надо? Чего шумишь?
– Я ранен, начальник.
– Ах, ранен? А я думал, он промахнулся.
– На правой руке сквозная рана.
– Открывай, – сказал другой багор.
Дверь открылась, и меня выпустили из камеры. Действительно, на мышце правой руки был глубокий порез.
– Наденьте на него наручники и отведите в больницу. Там его не оставлять ни под каким предлогом. После оказания помощи сразу же в камеру.
Когда мы вышли из изолятора, нас встретили десять надзирателей во главе с комендантом. Багор из строительных мастерских прошептал:
– Убийца!
Прежде чем я успел ответить, комендант сказал:
– Спокойно, инспектор Брюэ. Тот первый напал на Папийона.
– Не похоже, – возразил Брюэ.
– Я видел и буду свидетелем, – сказал Антарталия. – И заметьте, месье Брюэ, корсиканцы не лгут.
Когда мы пришли в больницу, Шаталь послал за доктором. Врач молча зашил мне рану без всякой анестезии. Не произнося опять-таки ни слова, он наложил на нее восемь зажимных скобок. Я не возражал и не мешал ему заниматься делом. И тоже не издал ни единого звука. Закончив, доктор сказал:
– Надо бы под местной анестезией, но у меня ничего не осталось. – И добавил: – Твой поступок совершенно не оправдывает тебя.
– Видите ли, он все равно бы долго не протянул с этим нарывом в печени.
Мой неожиданный ответ поверг доктора в изумление.
Расследование возобновилось. Бурсе был выведен из-под следствия как лицо затерроризированное и запуганное, не способное отвечать за свои поступки. Я всячески способствовал следственной комиссии принять эту точку зрения. Обвинение против Нарика и Кенье было отведено за отсутствием доказательств. Остались мы с Карбоньери. Обвинения в краже строительного материала и использовании его не по назначению были с него сняты. Оставалось соучастие в попытке бежать. Самое большее, он может получить за это шесть месяцев. Мои дела усложнились. Несмотря на все показания в мою пользу, следователь не воспринимал мои действия как предпринятые в целях самообороны. Дега видел дело, заведенное на меня. Он сказал, что, несмотря на все усердие следователя, похоже, что меня не удастся подвести под гильотину, поскольку я был ранен. В обвинении против меня фигурировала одна досадная штука, на что и напирало следствие: оба араба-тюремщика видели, что я первым вытащил нож.
Расследование завершилось. Я ожидал отправки в Сен-Лоран, где должен буду предстать перед военным трибуналом. Не делаю ровно ничего – только курю. Даже не хожу. К моей утренней прогулке добавили час в полдень. Ни разу ни комендант, ни другие надзиратели, кроме багра из мастерских и следователя, не выказывали ко мне никакой враждебности. Они разговаривали со мной без всякой неприязни и разрешили приносить мне табак в любом количестве.
Отъезд назначен на пятницу, а дело закончили во вторник. В среду в десять утра, когда я уже находился на прогулке два часа, поступило распоряжение доставить меня к коменданту.
– Пойдемте со мной.
Я пошел с ним без всякого конвоя. Спросил, куда идем, хотя видел, что направляемся по тропинке, ведущей к его дому. По дороге он сказал:
– Жена хочет повидаться с вами перед отъездом. Я не хотел ее расстраивать присутствием вооруженного надзирателя. Уверен, что вы будете вести себя как положено.
– Да, месье комендант.
Мы подошли к дому.
– Жюльетта, я выполнил свое обещание и привел к тебе твоего протеже. Ты знаешь, что к двенадцати я заберу его обратно. На разговор даю около часа.
С этими словами комендант оставил нас.
Жюльетта подошла ко мне, положила свою руку мне на плечо, глядя прямо в лицо. Ее черные глаза светились еще больше оттого, что на них навернулись слезы, которые, к счастью, ей удавалось сдерживать.
– Ты с ума сошел, дружочек Папийон. Если бы ты мне сказал, что хочешь бежать, я смогла бы устроить все гораздо проще и легче. Я просила мужа помочь тебе, насколько это возможно, но он говорит, что, к сожалению, это не от него зависит. Я послала за тобой, чтобы посмотреть, как ты себя чувствуешь, – это во-первых. Поздравляю, ты не падаешь духом и выглядишь лучше, чем можно было ожидать. А во-вторых, я хочу расплатиться с тобой за рыбу, которую ты так щедро нам давал в течение этих месяцев. Вот тысяча франков – это все, что у меня есть. Жаль, что не могу дать больше.
– Послушайте, мадам, мне не нужны деньги. Поймите, прошу вас, я не могу их принять: это могло бы повредить нашей дружбе.
И я отстранил от себя ее руку с деньгами, которые она так красиво мне предложила – две банкноты по пятьсот франков.
– Прошу вас не настаивать, мадам.
– Как хочешь, – сказала она. – Не желаешь ли немного аперитива?
В течение часа с небольшим эта великолепная женщина в совершенно очаровательной манере разговаривала со мной. Она полагала, что суд должен отвести от меня обвинение в преднамеренном убийстве этой свиньи. Мне могут дать от восемнадцати месяцев до двух лет.
Когда я стал прощаться с нею, моя ладонь надолго задержалась в ее руках. Крепко пожав ее, она сказала:
– До свидания. Удачи.
И разрыдалась.
Комендант отвел меня в изолятор. На обратном пути я сказал ему:
– Месье комендант, ваша жена – самая благородная женщина на свете.
– Знаю, Папийон, она создана не для такой жизни, как здесь. Для нее она слишком жестока. Что поделаешь? Еще четыре года – и я выйду в отставку.
– Хотелось бы воспользоваться представившимся мне случаем, комендант, и поблагодарить вас за хорошее обращение со мной. И это несмотря на то, что у вас было бы больше всех неприятностей, окажись мой побег успешным.
– Да уж, головной боли было бы предостаточно. И все же, должен признаться, вы заслуживаете успеха.
Поравнявшись с воротами изолятора, комендант сказал мне:
– До свидания, Папийон. Да поможет вам Бог. Вам нужна его помощь.
– До свидания, месье комендант.
Да, Божья помощь мне действительно понадобится: военный трибунал под председательством жандармского майора был безжалостен. Три года за воровство, незаконное присвоение казенного имущества, осквернение могилы, попытку бежать. И сверх того пять лет за непреднамеренное убийство Селье. Отбытие наказания последовательное и непрерывное. Итого восемь лет одиночного заключения. Если бы я не был ранен, то меня, без всякого сомнения, ожидал бы смертный приговор.
Суд, который обошелся со мной столь круто, был более снисходителен к поляку Дондоскому, убившему сразу двух человек. Ему дали только пять, хотя преднамеренность и умысел присутствовали в этом случае без всякого сомнения.
Дондоский работал пекарем, делал опару и больше ничего. Трудился с трех до четырех утра. А поскольку пекарня стояла рядом с пристанью и ее окна выходили на море, он все свое свободное время удил рыбу. Это был тихий человек, по-французски говорил плохо, ни с кем близких дружеских отношений не заводил. Всю свою любовь и привязанность этот бессрочник направил на жившего с ним великолепного черного кота с зелеными глазами. Они спали вместе в одной кровати, кот следовал за ним повсюду, как собака, а когда Дондоский работал, кот тоже находился рядом. В общем, кот и человек оказались преданнейшими друзьями. Ходили они везде вместе; только когда день выдавался особенно жарким и не было тени, кот самостоятельно шел в пекарню и укладывался спать в гамаке своего друга. Когда колокол отбивал полдень, кот отправлялся к морю встречать поляка, который там же кормил его мелкой рыбешкой. Он подманивал кота, держа и раскачивая рыбу на весу, кот прыгал и ловил ее.