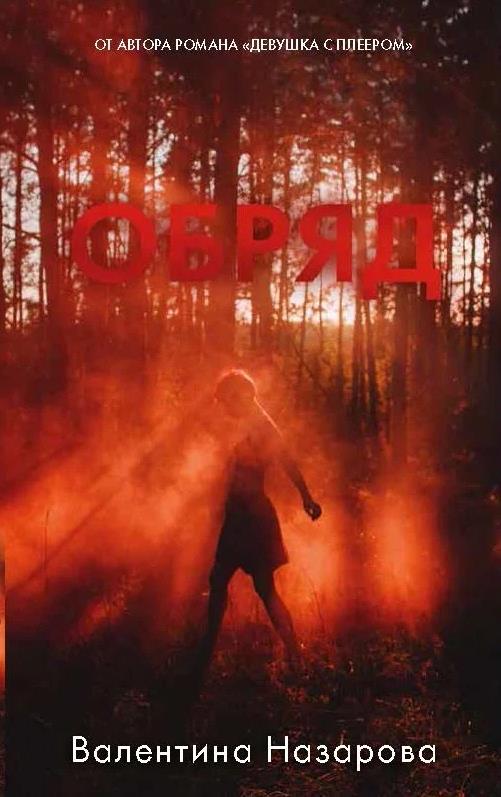и лучшая подруга — слишком много прошло времени. Возможно, они не давали ей ничего, потому что провалы в памяти начались у Насти давно, гораздо раньше, чем эти двое появились в ее жизни. Шесть с половиной лет назад. Когда-нибудь они пройдут — так пишут в книгах, которые она взяла в библиотеке. Самое главное, что она не убивала Артура, а он никогда ее не любил. Это освобождает ее от вины и от горя, освобождает для того, чтобы поцеловать Матвея в губы прямо в прихожей, прижавшись к нему всем телом. Чтобы водить языком по его зубам, пока он не откроет рот и не впустит ее, и она не почувствует его холодные сухие ладони у себя под свитером. Их любовь не похожа ни на что другое. Их любовь — любовь, Настя присутствует в ней вся целиком, в каждом прикосновении.
Ей больше не нужно обнимать кого-то, чтобы уснуть, она растягивается на спине, аккуратно убрав тяжелую руку Матвея со своего живота, и наблюдает за тенями на потолке, медленно погружаясь в сон. Она уже почти отключилась, когда с улицы до нее долетает звук — печальное тихое мяуканье.
— Черт, — шипит Настя сквозь зубы. — Вот я дура.
Это ее коты зовут. За то время, пока ее не было, двое из них, родители, пропали. Остались только младшие, подросшие котята, которые еще не могут самостоятельно прокормить себя. Настя неслышно встает с кровати, одевается и натягивает сапоги на босу ногу. Она решает не будить лифт, спускается по лестнице тихо, на цыпочках. Открывает дверь подъезда и выходит в промозглую темень двора.
— Ну где вы, кис-кис-кис, хорошие мои? Я опоздала, но пришла! Простите меня.
Но двор молчит, окутанный дымкой, поднявшейся с реки. Настя ежится, туже запахивает полы пальто.
— Кис-кис-кис.
— Мяу.
— Кис-кис-кис.
Она делает шаг в туман.
— Кис…
Тут к ее ноге прикасается что-то невидимое, теплое и мокрое. Она вскрикивает, нагибается. Черный котенок, такой маленький, едва открывший молочно-синие, полуслепые еще глаза, трется об ее сапог.
— Киса, ты откуда здесь?
Она берет его на руки. Котенок дрожит, трется и цепляется маленькими невидимыми коготочками за лацканы ее пальто.
— Маленький, где твоя мама? Кис-кис-кис.
Тишина. Постояв несколько мгновений, Настя накладывает корм в пустую миску и уходит, котенок у нее за пазухой.
Она долго прижимает лепесток магнитного ключа к замку, пока наконец не раздается монотонный писк механизма. Котенок испуганно жмется к ее груди, в его искристых черных зрачках бликует свет одинокой лампочки, покачивающейся под потолком подъезда. Она чувствует запах мокрой шерсти и страха. Настя поднимается наверх, перепрыгивая через ступеньку. Ей хочется скорее разбудить Матвея, не терпится увидеть его взгляд. На четвертом этаже она дергает свободной рукой за ручку двери, но та заперта. Наверно, Матвей проснулся и закрыл, думает Настя, ругая себя за то, что, как всегда, не захватила телефон. Она вставляет ключ в замок, проворачивает его и снова дергает за ручку.
— Матвей, — зовет она в глухую темноту квартиры. — Матвей…
Она чувствует, как в ушах у нее нарастает знакомый гул. Сначала он похож на шелест крыльев тысячи мотыльков, замурованных в картонной коробке, потом сильнее, как будто она на краю платформы, к которой с оглушительным ревом приближается поезд. Нет, только не сейчас. Она должна остаться здесь.
Настя долго шарит рукой по стене в поисках выключателя. Котенок впивается маленькими тонкими когтями в то место, где между ее ключицами бьется пульс.
— Ты что, зачем ты так? Мне больно.
Наконец ее пальцы добираются до выключателя. Раздается щелчок, коридор заливает светом. Настя резко вдыхает воздух, холодный и жесткий, как жидкий азот. Она стоит на пороге уставленной битыми скульптурами мастерской, а посередине, на полу прямо перед ней, лежит что-то большое и черное, укрытое серой шинелью.
МИШАНЯ
Настоящий обряд совсем не похож на то, что он понял из обрывков фраз, оброненных Настей и чужаком много недель назад, в поселке. Нет никакого алтарного камня, никакой крови, никаких молитв. И нет в нем никакого зла, только мудрость и исцеление.
В комнате горит свет. На ковре по кругу сидят женщины и мужчины, человек пять, кто скрестив ноги, кто вытянув их вперед, кто прикрыв глаза, кто — внимательно следя за каждым движением амулета, который с тихим монотонным жужжанием крутится на нитке в руках у его отца. Шаманом его здесь никто не зовет, для них он — нойд. И они все пришли к нему потому, что верят в текущую по небу зеленую реку, из которой он черпает силу.
Сейчас перед отцом в центре комнаты встает старуха. Он подходит к ней и закрывает глаза; все следуют его примеру. Амулет раскручивается в его пальцах, и он водит им вдоль ее спины, прислушиваясь к жужжанию. Громче. Тише. Мишаня пытается уловить, что же отец слышит там, в этом тихом звуке, но ему еще рано, ему еще надо учиться. А пока они все принимают на веру то, что он говорит старухе, ведь другого выхода нет. Здесь, в селении на самом краю земли, на берегу ледяного океана, нет других людей, кто мог бы помочь. Только отец, а теперь еще и он, Мишаня.
Когда все расходятся, отец варит на кухне картошку, принесенную ему с огорода дочерью женщины, которую он лечит. Он никогда не берет денег, у него есть работа, он рыбак на судне.
Они садятся есть картошку с жареной пикшей, пьют травяной чай из оловянных походных чашек. Отец молчит, но Мишаня знает, что не потому, что он злой или не любит его, а потому, что устал.
После они ложатся спать. Отец, кажется, засыпает почти сразу, его храп сначала тихий, а потом нарастает, как прибой. Этот звук успокаивает Мишаню, напоминает ему о детстве, о том времени, когда они все вместе жили в старом деревенском доме. С тех пор как он нашел отца и тот принял его в свой мир, Мишаня почти никогда не думает о том, что осталось позади. Он очень быстро все понял и принял. Раньше он хотел быть как Петька, а тот оказался подонком, который видел, как делали больно