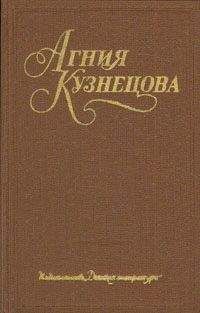— Ты же говоришь: жулики… — робко сказала Маша.
— Все зависит от того, когда слинять… Главное, вовремя слинять… Схема нашей деятельности будет такая: завтра мы вносим бабки, нам тут же открывают счет, — после обеда мы делаем первую ставку… Сколько ты сможешь, имея триста долларов, заработать до ночи?
— Нисколько, — сказала Маша. — Так не бывает…
— У нас бывает, — жестко сказал Иван. — Триста долларов, — пункт, если евро или фунт — три доллара. Поняла?
— Да.
— Так сколько?
— Ну, пунктов от пятидесяти до ста, как повезет.
— Сто, — жестко сказал Иван. — Значит, послезавтра ты выставляешь уже шестьсот долларов… Сто пунктов сделаешь?
— Постараюсь.
— Тогда к вечеру мы будем иметь тысячу двести долларов. Нормально.
— А на следующий день — две четыреста? — спросил я.
— Нет, — сказал Иван и посмотрел на меня, как на младенца. — На следующий день, мы снимем, что заработали, и откроем счет в другом банке, где первоначальный депозит — тысяча долларов… Иначе можно остаться без всего.
— Логично, — сказал я.
— Там мы за два дня доводим наши бабки до пяти тысяч и снова линяем… Туда где депозит — пять тысяч. Те расплачиваются уже до двадцати тысяч, я выяснял. Затем линяем дальше… Открываем счета в трех-четырех солидных банках, — там, где по десять, — и стрижем с каждого в месяц тысяч по пять, больше нельзя… Получается не очень много, но нам, на первое время больше и не нужно. Пять тысяч в месяц на брата, это не плохо… Ну как?
— Пять тысяч, — разочарованно сказала Маша.
— Тогда двигай в Париж, — раздраженно сказал Иван, — там можно хоть по миллиону в день грести, — все отдадут…
Сказал и замолчал… Я улыбнулся: вот он, редкий исторический момент, когда количество начинает переходить в качество.
— Но там Сорбонна… — сказал он, после паузы.
— Есть еще Кембридж и Мичиганский технологический, — подсказал я.
— Так, так… — словно про себя, сказал он, — дайте-ка мне немного подумать.
— Париж? — спросила Маша, и посмотрела на меня. — Но я не говорю по-французски.
— Какими языками ты владеешь?
— Только английским.
— Стоп! — перебил всех Иван. — Программа меняется… Нам нужны документы, особенно тебе, плакса. Затем мы продаем недвижимость и автотранспорт… И адью!
— В Париж? — спросил я.
— Зачем, на нем свет клином не сошелся. Можно и в Лондон.
2
Я не сплю ночами. Ночи — пугают меня. Ночью я могу умереть.
Или опять ко мне придут кошмары…
Я уже разок всех перепугал, — три дня назад.
Той ночью я случайно заснул. Забыл выпить кофе и, вдобавок, мне попалась скучная книга: «Что такое искусство?»… Ее, должно быть, купили Ивану, чтобы он как-нибудь вошел в мир прекрасного, — но что такое «искусство», я так понял, не знает никто, так что читать ее было одно мучение.
И я заснул…
Опять мне приснилась, — мука. Мне приснилось, что я один на целом свете, и никому не нужен. Я попал в страшное, раздирающее одиночество, — и оно принялось выжигать мне душу. Не защититься от него, не спрятаться… Оно притягивало, и расчленяло меня на составные части, — так что я разлагался, как труп, выброшенный на помойку. Но только еще хуже, потому что распадалась не тело, а моя суть, то, из чего состоит мое «я», что должно быть вечно и незыблемо.
Я переставал существовать в этой тоске, — бесцельной, никуда не направленной, полной безжалостных сил, каждая из которых могла справиться со мной…
Спасло то, что я проснулся.
С самой настоящей тахикардией и в поту…
Полежал с минуту, собирая себя из разрозненных частей. Как безжалостно только что во сне меня расчленяло, точно так же безжалостно я возвращал все на место. Уже я — был главным. И я ненавидел себя, за свое хрупкое устройство… С минуту я занимался строительством, возвращая выпавшие кирпичи на прежнее место.
Потом решил все же выпить кофе.
На кухне, на полу, рядом с чайником, сидела Маша. Как хорошо, — ненасытная йена разрешила ей немного передохнуть. Значит, поболтаем, за чашечкой «Чибо». С ней так приятно разговаривать…
Но на пороге, когда я уже улыбался во все лицо, — вдруг темнота подступила к глазам, внутри что-то оборвалось, мир пошатнулся, осталось только последнее слово, которое я хотел произнести, но не успел: «прощай».
— Я на тебя смотрела, — сказала Маша, когда я открыл глаза, и она увидела, что я уже в состоянии воспринимать речь.
— Не испугалась, — произнес я непослушным языком, — что меня хватила кондрашка?
— Иван же предупредил про твои припадки… Я сидела и смотрела на тебя.
Она на самом деле сидела рядом со мной на полу, и смотрела на меня. Она удобно устроилась. Тут же на полу стоял электрический чайник, чашка с недопитым кофе и тарелка с остатками торта.
— Долго ты на меня смотрела? — спросил я.
— Долго, — сказала она.
— И что?
— Ничего… Ты и в этот раз меня не замечал.
Отсюда, снизу, шрам на горле у Маши был особенно отчетлив, он набух розовыми краями и казался непомерно большим.
— Ты — настоящий мужчина, — сказала она.
— Это как? — не понял я, не делая еще попытки приподняться.
— Тогда, в электричке, ты был мальчик, как Иван…
— Вот до чего довела меня жизнь, — попробовал пошутить я. Несмотря на привычку возвращаться, все же для этого требовались кое-какие усилия. Я пытался скрыть их от нее.
— Тебя будут бояться враги, — сказала Маша.
— Что? — не понял я. — У меня нет врагов… Одни — друзья.
— У тебя есть враги, — сказала она. — Это неизбежно. Любое твое действие — рождает, может быть, друзей. Но оно рождает и врагов.
— Какое еще действие? — опять не понял я.
— Не знаю… — сказала Маша. — Может, ты меня спас, — это?
— То есть, ты говоришь, что на ум придет… Первое попавшееся. А потом сама не можешь понять, что получилось?
— Нет, — не согласилась Маша, — не первое попавшееся. Просто, когда я смотрела на тебя, я подумала, что хорошо бы, если бы у тебя были враги. Какие-нибудь очень серьезные. Чтобы ты мог сразиться с ними в единоборстве.
Но тут я, конечно, сел. Потому что ничего другого не оставалось.
— Включи-ка чайник, пожалуйста, — попросил я.
Она послушно надавила на кнопку.
— С кем я должен сразиться в единоборстве? — переспросил я.
— Откуда я знаю, — развела она руками. — Тебе видней.
Она была рядом, так близко, что я чувствовал, как пахнут ее волосы. Не шампунем, не гелем, — чем-то таким, от чего запросто можно было потерять рассудок.
Наверное, я как-то не так посмотрел на нее, — как-то не так посмотрел, и никак не мог отвести взгляд. И продолжал смотреть на нее как-то не так. Потому что она была настолько близко, что я ничего не соображал. Вдобавок, я только что, вообще-то, пришел в себя, — и плохо воспринимал окружающую нас реальность.
Она замолчала, — тишина зазвенела, как тетива монгольского лука. На одной ноте, на одной ноте, на одной…
— Не нужно, — как-то жалобно и беззащитно, словно рабыня жестокого плантатора, попросила она, — не нужно, пожалуйста…
— Не нужно, что? — хрипло спросил я.
— Ничего не нужно…
Какая-то борьба происходила внутри. Какое-то время. Я не знаю. Меня мотало как-то и все плыло перед глазами.
Но потом я, вдруг, вспомнил, что — гордый человек…
В самый дурацкий для этого момент. В самый неподходящий из всех, какие только можно вообразить. Я — гордый человек. Или просто — человек. Что — одно и тоже… К сожалению. Но, может быть, с большой буквы? К сожалению тоже.
— Смотри-ка, чайник вскипел, — сказал, кое-как переведя дух, я. — Давай-ка пить твой кофе.
— Давай, — согласилась она.
— Тебе не пора, — спросил я. — Может быть, твой перерыв закончился, и тебе пора на рынок?
— Нет, не пора, — сказала она.
— Ты так ему верна, — усмехнулся я, — я думаю, при такой верности, тебе никогда не суждено умереть в нищете.
— Да, — согласилась она.
Я взглянул на нее, наливая воду в чашку, и увидел, что она плачет. Она смотрела перед собой и плакала, как Маша. Вода собиралась в ее блестящих черных глазах, скапливалась в большие прозрачные капли, те падали на щеки и катились по ним вниз, к губам и подбородку. Их было много — ее слез. Одна повисла на носу, другие бросались с подбородка на пол, и превращались там в небольшую лужу.
— Иван был прав, — сказал я, — ты — большая рева.
Маша улыбнулась мне, словно извиняясь за происходящее, но выделять влагу не перестала, — наоборот, по щекам потекло еще больше.
— А какие были слова, — вспомнил я, — какие замечательные слова: рожу тебе ребенка… Что вот ты теперь скажешь на это?
— Я — погорячилась, — сквозь слезы произнесла она.
И тут уж принялась так рыдать, что я не стал больше ждать, — побежал в ванную за самым большим полотенцем.