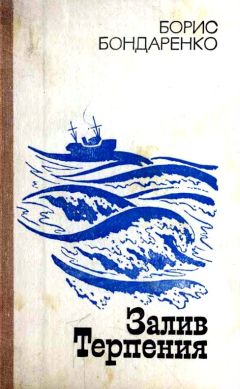Вера удивленно взглянула на него.
– Вот еще, была нужда... Успею с пеленками навозиться.
– А вдруг не успеешь?
– С чего бы это? – не поняла Вера.
– Тебе же не семнадцать лет.
– Не волнуйся, в старых девах не останусь.
– А я и не волнуюсь.
Вера горделиво повела плечами.
– Вот уж для меня не забота – замуж выскочить. Стоит только пальцем поманить – любой побежит. А пока не горит – погуляю еще.
– Ну, погуляй, – усмехнулся Василий.
Бутылку, с помощью Веры, он все-таки допил, к концу вечера даже как будто немного опьянел, но когда вышли на улицу, холодный дождливый ветер тут же выбил весь хмель. Вера повисла на его руке, и они быстро пошли по пустой темной улице. И опять им овладела скука. Скучно было возвращаться в неприветливую сырую комнату, ложиться с Верой в постель, отвечать на ее словно на всю жизнь заученные ласки.
Это ощущение неистребимой скуки не оставляло его все дни, оставшиеся до отъезда Веры. И он почти обрадовался, когда она уехала. Последние часы перед ее отлетом были особенно длинными. Говорить им было совершенно не о чем, и они были не нужны друг другу. И у обоих на прощанье не нашлось друг для друга ни одного теплого слова.
С неделю Василий прожил словно в каком-то полусне. Над морем и узким длинным городом все время висела низкая густая тьма облаков, оттуда, почти не переставая, сыпался дождь, даже днем было по-вечернему сумрачно. От такой погоды Василия неудержимо клонило в сон и он, не сопротивляясь, помногу спал. Просыпался всегда с тяжелой, глухо гудевшей головой, смотрел в потолок, ни о чем не думая, – думать как будто совсем было не о чем. И хотя от долгого лежания ныли бока, вставать ему не хотелось, – да и зачем? Даже голода не чувствовалось, хотя ел он раз в сутки, в ресторане. И на выпивку почему-то тоже не тянуло, вполне хватало двух рюмок, которые он выпивал только для того, чтобы поесть как следует.
Однажды подумалось, что надо бы куда-то уехать, – хотя бы в Ялту, что ли... И тут же отказался от этой мысли – что толку? И там будет такая же убогая комнатенка, найдется – при желании – какая-нибудь Люба или Маня, с которой все будет в точности так же, как с Верой и со всеми другими. Второй Тани для него уже не найдется... Но и о Тане вспоминалось уже почти спокойно, без прежней саднящей обиды. А ехать куда-то работать тоже было незачем – денег у него оставалось еще много.
Из этого одуряющего оцепенения Василия вывел его день рождения. Он совсем забыл о нем и вспомнил только под вечер, проглядывая газету и обратив внимание на число. «Вот елки-моталки, – ругнулся про себя Василий. – Все-таки – тридцать два – года...» Он недолго подумал над этой цифрой, пытаясь понять, много это или мало. Получалось вроде бы ни то ни се – до старости далеко еще, но и салагой его не назовешь.
Он решил как-то отметить этот день, приоделся, зашел в парикмахерскую поправить бороду. Разглядывая себя в зеркале, он подумал, что выглядит явно старше своих тридцати двух – из-за бороды, что ли? Да нет, не только из-за нее, хотя седых волос в ее угольной черноте и на висках поприбавилось. Седеть он начал лет шесть назад, но все говорили, что это идет ему и совсем не старит. А сейчас лицо было одутловатое, какое-то серое, нездоровое, глаза припухли, глядели мутно, – с пересыпу, наверно. «К черту это спанье», – решил Василий.
Он пошел в «Гагрипшу», заказал основательный ужин, закуски, но и половины не съел за весь вечер. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь подсел к нему, но ресторан не был заполнен и на четверть, свободных столиков сколько угодно, и в конце концов он оказался один на всем ряду. А когда уходил, в ресторане, кроме официанток, никого не было.
Дорогой ему вдруг представилось, что день рождения можно было бы встретить не в пустой холодной «Гагрипше», а где-нибудь в своем доме, вместе с Таней и сыном. Представилось всего на какие-то секунды, но так разительно различались эти две картины, – только что закончившееся ресторанное застолье в одиночку и воображаемое сиденье за столом вместе с Таней и Олежком на коленях, – что Василию стало как-то жалко себя. Давно уже понимал он, что Таня кругом была права, когда говорила о невозможности их совместной жизни, понимал и то, что, не будь сына, и к ней он относился бы по-другому, забылось бы уже все. И вдруг, как только вспомнил он об Олежке, больно резанула неожиданная мысль: а что, если и еще где-нибудь есть у него ребенок? Его даже потом прошибло. А ведь очень даже может быть такое – много с кем он встречался за эти годы. Что, если сейчас какая-нибудь бедолага в одиночку мается с его сыном или дочерью, – и что скажет ему об отце, когда тот спросит о нем? Мол, знать не знаю, где он, и ты никогда не узнаешь? Вот оно, Вася, как может повернуться... Сам рос безотцовщиной и сам же плодишь ее... Ну ладно, у Олега пока формально отец есть – да и то, надолго ли? Говорила же Татьяна, что ему жить осталось лет пять, самое большее, а два года с тех пор уже прошло... Так что и Олегу несладко придется, а без отца мальчишке ой как плохо, по себе должен знать... Будь у тебя отец – наверняка бы и учиться заставил, и с воришками ты не связался бы, и в колонию не попал бы, да и вообще – совсем другая жизнь была бы... Ну, Олежку Татьяна, конечно, воспитает, – а если и в самом деле еще где-нибудь твое семя в рост пошло? Раньше почему-то и не думал об этом. А ведь не больно много и ума-то надо, чтобы додуматься до этого. Видать, верно Татьяна говорила, – думать не умеешь, привык, что всегда за тебя думальщики находятся. Хоть и большой ты, Вася, а дурной, наверно... А пора бы за ум браться, тридцать третий уже... Как бы и в самом деле у разбитого корыта не оказаться...
Прежде чем зайти в свою комнату, он постучался к хозяйке и сказал, что завтра уезжает. Хозяйка явно расстроилась, – где теперь найдешь постояльцев? – и он дал ей вдвое больше того, что причиталось с него. Потом зашел в свою комнату, зажег свет и собрал вещи. Ушло на это всего пятнадцать минут, и он не знал, что делать дальше. Лег на кровать и стал читать.
К утру он закончил книгу, отложил ее и подумал: «Ничего, лихо закручено... Только чего это он, чудак, сам признался? Хотя – все равно этот Порфирий арестовал бы его».
Василий улетел в Москву и пробыл там два дня, раздумывая, куда двинуться дальше. И решил полететь на Сахалин, где был три года назад. Куда ехать, ему было в общем-то все равно. Просто на Сахалине наверняка легче разыскать кого-нибудь из старых дружков, чтобы не мыкаться одному.
И действительно, в Невельске он сразу наткнулся на Петра Довганя, с которым проплавал когда-то сезон на СРТ[1]. С ним он вскоре и ушел в плавание.
Новый год встречали между двумя заметами. До этого они две недели гонялись за рыбой, хватали «пустырей» и наконец прочно стали на косяк и начали заливаться селедкой. И тут уж не до Нового года было. Только и успели, что сойтись на полчаса и, не снимая заледеневших, колом стоящих роб, пропустить по сто грамм. И снова полезли на палубу.
По палубе метался ветер, сек лица стальной крупой и ледяными брызгами. В свете прожекторов белым огнем сверкали обледеневшие снасти, и Василий подумал, что пора бы и обколоться, иначе можно и в ящик сыграть. Такое, хоть и очень редко, но случалось, – надстройка, обрастая льдом, отяжелевала настолько, что траулеры на хорошей волне переворачивались. Но думать об этом было некогда – пришлось браться за работу. Да и не его это в конце концов забота, пусть комсостав думает, ему это по штату положено.
Через двое суток они нагрузились рыбой под завязку, обкололись и отправились спать. Потом снова обкалывались и снова спали.
Ждали перегрузчика, бездельно болтались на волнах.
Василию вдруг все опостылело, муторно было глядеть на унылое, безнадежно холодное море, на до тошноты знакомые лица, слышать их слова, – тоже, казалось, знакомые с пеленок, – и делать тяжелую работу, неожиданно потерявшую всякий смысл. Ну, сдадут они рыбу, еще наловят, еще сдадут, месяца через два вернутся в порт, получит он свои три-четыре тысячи, – а на кой, собственно, черт они нужны ему? Опять куда-то в теплые края, опять какая-нибудь Верка под боком, и – как телок на привязи, а веревка, – эти самые убывающие тысячи? И что, опять все сначала?
В такую невеселую минуту сцепился он с штурманом. Была у того гнусная привычка – ходить по траулеру как в собственном доме, где места невпроворот, а все живущие в нем – его слуги, – расступись, хозяин идет. Василий – не расступился да так саданул штурмана плечом, что тот чуть через леер не сыграл, изумленно выставился на него зрачками:
– Ты что?
– А – ходи ладом, не в тещином доме! – рявкнул Василий.
– Ах ты... – раскатился было матюками штурман, но Василий, надвинувшись на него, понизил голос:
– Ты чего пасть разеваешь, начальничек? Тебя разговаривать с людьми не учили?
Начальничек сузил глаза, деловито пообещал: