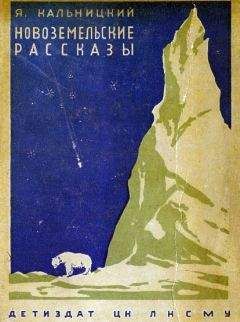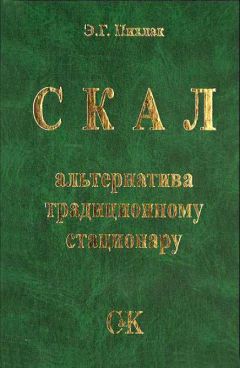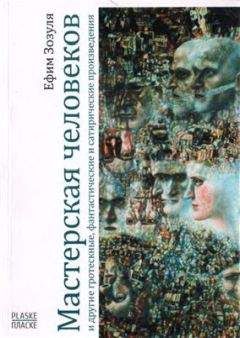— Ну, ты, Собачья смерть! Пошел ко двору!
И здоровенный зверь покорно поджал хвост, зажмурил глаза и виновато затрусил в сторону. Потом всю дорогу он следовал издали за нами; косой его взгляд упирался в меня всякий раз, когда я оборачивался.
Вскоре мы сидели в теплой комнате и пили чай. Молодые хозяева чинно угощали меня лепешками, соленой рыбой и усердно наполняли мою объемистую чашку.
— Вася, как ты, дружок, собаку назвал?
— Какую собаку?
— Да вот эту, большую, серую, злую...
— Ах, эту? Ну как же еще?! Собачья смерть... Так и зовется. Собака справная, работящая... И не злая. Только чужих собак не любит. Как за горло схватит, так и конец — загрызет насмерть. Оттого так и кличут.
Дальше беседа пошла о делах и заботах, о планах и надеждах.
Оказалось, что молодые хозяева сами вчера только вернулись домой из школы. Учатся они в Белушьей губе, за триста километров от своего становища. Там и живут в интернате весь школьный год. А теперь вот моторный бот артели привез их домой на летние каникулы, а дома — никого. Все население уехало в Безымянную губу собирать кайровые яйца... Но ребят это не смущает, — провизии хватит, вдвоем нескучно, и промышляют мелкокалиберной винтовкой изрядно (Васька взял трех гусей, Володька убил пятерых), — а через пару, другую дней вернутся родители...
Гораздо больше их волнует отсутствие письма от шефов, школьников Новочеркасска. В десятый раз Володя принимается за перечисление обстоятельств их короткой переписки.
— В прошлом годе с первым пароходом... — и т.д.
— Худо дело, — заканчивает он, — и они писали, и мы отписывали, чтобы под честное пионерское слово крепкую связь держать, а теперь они не прислали... Вот тебе и связь.
— Ладно, — говорит Вася, наливая мне пятую чашку чая, — свяжемся с харьковскими. Может харьковские поаккуратней будут...
В голубом небе висит огромный матовый фонарь. То полуночное солнце дремлет, заливая молочным светом дикий остров. Лед дымится под этими сонными лучами. Реки света, пенясь и бурля, стекают с глетчеров в серые воды пролива. Багрово-красные русла прокладывают себе путь к морю.
Молодые приятели примостились на моей койке и чинно сосут конфеты. Они терпеливо ждут, пока я разберусь в груде писем, которыми меня снабдили харьковские ребята. Мне нужно найти письмо от пионера, близкого по возрасту моим новым друзьям.
— Ну-ка, ребятки, кто из вас отличник?
— Оба, — отвечают они в один голос.
— Тут письмо одно... Видите на конверте? «Лучшему пионеру-отличнику Новой Земли»... Так и написано: «Лучшему»...
Они переглядываются. Володя смущенно тянет:
— Лучшему... Конечно, и мы отличники... Ну, — вздыхает он, — есть и получше.
Справедливое это замечание на миг смутило даже меня. Но выход нашелся:
— Ну да, лучшему... Не написано ведь «самому лучшему». А каждый отличник — лучший. Значит и вы лучшие. Не самые, конечно, а все-таки лучшие... Понятно?
Не без колебаний они признают, наконец, свое право на письмо. Я приступаю к чтению.
«Будьте готовы, ребята Новой Земли.
У нас весна. Все зеленеет. Цветут пестрые цветы. В саду мы катаемся на пони»...
— Чего? На чем катаемся? — перебивает Вася.
— На пони...
— Неправильно написано, — безапелляционно заявляет он. — На кони — должно...
— Да нет же, Вася, не на кони, а на пони... Лошадка такая маленькая...
— Собака! — решительно заявляет он. — На собаках катаются... не на пони...
— Ну, как же собака, когда лошадь?
— И лошадь — собака, и кони — собака, а если ездят на пони, значит — и пони собака. Понятно?
— Крепко, очень крепко, Василий. Ты который год в школе?
— Первой...
— Ну как же ты не понимаешь, что лошадь — не собака. Собака маленькая, а лошадь большая...
— Собачья смерть тоже маленький был... Я его кормил, и он вон какой вырос! Зимой нерпы будут, я его выкормлю, как этот дом станет!
Вася по-видимому исчерпал все свои доводы. Так и не узнав, поверил он мне или нет, я продолжаю чтение письма:
— «Вода в фонтане разноцветная от электрического света»...
— Это правильно, — кивая головой, подтверждает Вася. — Сказывал учитель про электричество...
— Во-на... электричество, — воскликнул Володя, — по плану и у нас скоро засветится...
«У нас лучший в мире дворец пионеров и октябрят, — продолжаю я читать, — я работаю в авиамодельном кружке. Работа очень интересная. Мои две модели пошли на выставку»...
— Моя залетела, так и не нашли... — вставил Володя.
«Я хочу быть летчицей... А вы? В прошлом году у меня был „неуд“ по украинскому. Но я подтянулась, и в этом году у меня все „отлично“, только один „хор“ по арифметике... Обещаю вам, ребята, под честное пионерское слово, что я перейду в четвертый класс на все „отлично“. И всегда я буду отличницей. Я живу очень хорошо. Пришлите мне в письме немножко оленьего моха... А если можно, то пришлите какого-нибудь живого зверенка. Я буду его воспитывать ... Жду ответа. Будьте готовы! С пионерским приветом, ученица третьего класса.
Валя Свидерская».
— Ну, как? Подходящее письмо?
Оба удовлетворенно тянут:
— Ничего, подходящее...
— Тогда вот что, ребята, мы снимаемся через пару часов... Валяйте письмо Вале писать, ответ...
— Поспеем, — говорит Володя.
Однако его торопливый шаг вовсе не соответствует медлительности речи. И как ни хочется ребятам казаться степенными мужиками, по тому, как гребут они, я вижу, что они спешат, что взволнованы письмом Вали Свидерской.
Прощальные гудки «Русанова» гремят, подхваченные эхом, среди гор. Кажется, что сотни пароходов заблудились в ущельях и молят о спасении. Якорная цепь ровно наматывается на барабан лебедки.
— Якорь стал!
— Есть выбрать якорь!
Корма описывает полукруг. Становище убегает в сторону. Дома точно проваливаются один за другим в воду.
Наш добрейший капитан Хромцов — бывалый моряк, начавший службу с юнги и к тридцати двум годам вышедший в капитаны дальнего ледокольного плавания, подставляет свое лицо новоземельскому ветру, как бы прощаясь с ароматами, мрачностью, туманами и блеском этого куска советской территории. Потом он подносит к глазам бинокль, обводит горизонт и берет на себя рукоять машинного телеграфа до отказа:
— Полный — вперед!
Трещины сглаживаются, точно горы внезапно помолодели. Горизонт за кормой расширяется. Все меньше на нем суши, все больше воды, света и серого простора.
Мерно рокочут машины, пена, точно взбиваемые сливки, бежит конусом от бортов и смыкается в шипящий след за кормой. Ледокол вошел в фарватер. В это время, когда мы впиваемся в даль вправо от курса, чтобы не проворонить банку у Черного камня, сзади, сквозь рокот и плески, летит слабый детский крик:
— Погодите! По-о-го-дите...
За кормой, в пене и солнечных бликах, болтается круглая лодчонка. В ней знакомые фигуры Васи и Володи. Они машут руками и в одной из рук я ясно вижу большой конверт.
— По-о-го-дите...
— Николай Иванович, — прошу я, — капитан, на минуточку только... Очень важно... Письмо у них...
Капитан Хромцов сначала ворчит, потом радушная широкая улыбка открывает его ровные белые зубы; лицо его светлеет, и он переводит рукоять телеграфа на «Стоп»...
Срываюсь с трапа, мчусь на корму... Вася сует в руки какую-то веревку, рискуя каждое мгновенье сорваться в кипящую воду. Володя тянется с конвертом в руках... Я перевешиваюсь через борт. Матросы держат меня за ноги; впопыхах я хватаю и то, и другое... Веревка натягивается, и между фигурами ребят вдруг возникает что-то лохматое, серое. Оно бьется, дергается, визжит и барахтается... Матросы спешат мне на помощь. Мы затягиваем серое тело на палубу и тут я узнаю у своих ног... полузадушенную Собачью смерть...
— Вале Свидерской! — кричит вдогонку Вася. — Пусть кормит тюлениной, будет лошадь...
Горы становятся все ниже и ниже и вскоре вовсе исчезают. На беспредельной поверхности царит солнце, все голубеет, и отдельные льдины, пришедшие с Карской стороны, сверкают как костры на немой глади моря.
Нерпа и морской заяц — разновидности тюленей.
Белуха — животное из семейства китовых.
Шанежки, шаньги — местное название сдобных булочек.
Норд-вест — ветер с северо-запада.
Малица — полярная одежда из оленьего меха наподобие рубахи. Одевается мехом к телу.
Гарпун — метательный снаряд, похожий на копье. Бросают его на веревке.
Пимы—теплая, мехом наружу, обувь.